Не так давно, в одном из постов, посвящённых фильму «Белое солнце пустыни», в комментарии пришла одна барышня, и начала причитать на тему «плохо, что фильм сняли не в полном соответствии с литературным первоисточником», то есть книгой Валентина Ежова, Рустама Ибрагимбекова с одноимённым названием. На все посылы, что книга является новеллизацией фильма и написана была гораздо позже, и все «не вошедшие в фильм эпизоды» были придуманы авторами позднее, я упирался в стену — «нет, книга была написана раньше, просто не издавалась». Поэтому я решил напомнить о том, как создавался сценарий легендарного фильма
в 1967 году, после триумфа «Неуловимых мстителей» руководителям Экспериментальной творческой киностудии пришла идея снять нечто подобное и у себя. В качестве создателя такого кино выбор пал на Андрея Михалкова-Кончаловского, а тот, в свою очередь, взял себе в соавторы сценариста Фридриха Горенштейна. Буквально за считанные недели они написали сценарий под названием «Басмачи». Речь в нем шла о том, как басмачи переманивают на свою сторону милицейский отряд, состоявший преимущественно из дехкан, но командир возвращает своих бойцов обратно, придя в самое логово врага. В ролях красного командира и главаря басмачей авторы сценария видели двух молодых звезд тогдашнего советского кино: Николая Губенко и Болота Бейшеналиева. Но руководителей ЭТК такой сюжет не устроил. В итоге Кончаловскому было дано задание написать новый сценарий на ту же «басмаческую» тему, но уже в соавторстве с другими авторами: титулованным Валентином Ежовым и молодым Рустамом Ибрагимбековым
Чтобы быть в теме, Ежов решил привлечь к работе над сценарием людей, знавших историю борьбы с басмачеством не понаслышке — то бишь героев гражданской войны. Встреч с такими людьми у Ежова было несколько, однако и они мало что ему дали в плане создания нетленного сюжета. Все их рассказы сводились к стандартным атрибутам приключенческого жанра: песчаные барханы, погони, засады, отравленные колодцы и т. д. А если в чьих-то рассказах и всплывало «нечто», то это нельзя было включать в сценарий по цензурным соображениям. Но именно так он нашёл «изюминку» будущего сценария. Уже не надеясь на чудо, Ежов спросил у одного бывшего кавалерийского комбрига, случались ли в его боевой биографии хоть какие-нибудь смешные эпизоды. «Конечно, были! — ответил комбриг. — Иногда преследуемые басмачи бросали в пустыне свои гаремы. Прискачешь к какому-нибудь колодцу, а около него женщины сидят, мужья давно ускакали. Оставить в пустыне — погибнут. Приходилось вместо преследования банды сопровождать «неожиданный подарочек» к ближайшему кишлаку. Намучаешься с ними».
Это было как раз то, что надо. Сопровождение брошенного курбашой гарема могло стать стержнем фильма, все остальные эпизоды можно было уже накручивать вокруг. 7 июня 1967 года в ЭТК поступила сценарная заявка от Ежова и Ибрагимбекова на сценарий «Пустыня». 8-го ее рассмотрела сценарно-редакционная коллегия, а на следующий день со сценаристами был заключен договор на написание сценария. Спустя несколько дней Ежов, Ибрагимбеков и будущий режиссер фильма Михалков-Кончаловский отправились в Коктебель, чтобы в уютном Доме писателей родить на свет хит всех времен и народов. С первых же дней работа заспорилась. Сюжет был выбран такой: красный боец Федор Сухов возвращается домой, но в пути вынужден сделать небольшую остановку, чтобы сопроводить до города гарем главаря басмачей Абдуллы. Однако спустя некоторое время Кончаловский внезапно утратил всякий интерес к басмаческой теме — ему предложили экранизировать «Дворянское гнездо» к 150-летию Тургенева и Ежов с Ибрагимбековым заканчивали сценарий сами. В конце июля 67-го первый вариант сценария под названием «Пустыня» был закончен.
Вот вкратце его сюжет:
Красноармеец Федор Сухов возвращается домой из Средней Азии. По дороге он находит в пустыне закопанного по горло в песок Саида, которого таким образом наказал заклятый враг Джавдет. Сухов его откапывает, и почти что волоком (Саид был ранен) пытается дотащить до ближайшего населенного пункта — захолустного городка Педжента. По дороге они едва не нарываются на банду Абдуллы, который ограбил проезжавший по пустыне караван. Спрятавшись за барханами, Сухов и Саид наблюдают за нападением, и Саид рассказывает красноармейцу, что Абдулла вот уже несколько дней пытается разыскать свой гарем, который он бросил в песках, спасаясь от красноармейцев.
В Педженте Сухов собирается оставить Саида лечиться, а сам сесть на поезд. Однако выясняется, что поезд вот уже несколько дней как вышел из строя. А тут еще Сухова угораздило встретиться с отрядом, в котором он служил. Его командир Чагин уговаривает своего бывшего подчиненного стать комендантом города на те две недели, пока отряд не уничтожит банду Абдуллы. Более того, Сухову передается на попечение и гарем курбаши, который красноармейцы обнаружили несколько дней назад в пустыне. Сухов вынужден подчиниться Чагину, поскольку рассчитывает за эти две недели починить своими силами поезд.
В течение нескольких дней Сухов чинит поезд, привлекая к этой работе и девятерых жен Абдуллы. Те работают с удовольствием, поскольку считают Сухова своим новым господином. Во время пребывания в городе Сухов знакомится с бывшим ротмистром царской армии Верещагиным, который работает телеграфистом, и его женой Ириной. По воле сценаристов, Ирина избалованная светская женщина, увлеченная романтикой Востока. Эта увлеченность приводит ее к тому, что она внезапно… влюбляется в Саида и собирается уйти от мужа. Между мужчинами возникает конфликтная ситуация, которая едва не заканчивается смертоубийством. В дело вовремя вмешивается Сухов — ему удается «разрулить» ситуацию и не допустить кровопролития.
Тем временем к городу подходит банда Абдуллы. Тот еще не знает, что отряд Чагина ушел из Педжента, поэтому присылает парламентера с требованием вернуть ему гарем. Сухов идет за советом к Саиду и Верещагину. Те советуют не связываться с Абдуллой и вернуть ему гарем. Но Сухов иного мнения. Он толкает речь про то, что Советская власть освободила этих женщин и будет защищать до конца. Правда, Сухов рассчитывает в этом деле на поддержку своих друзей, но те отказываются ему помогать. Саиду надо отомстить Джавдету за смерть отца, а Верещагину просто до лампочки конфликт Советской власти с Абдуллой. Сухову, естественно, грустно от такого расклада, но делать нечего — надо принимать бой в одиночку. Но в тот момент когда Абдулла нападает на город, на помощь Сухову приходят его передумавшие друзья. В этой схватке они оба погибают, однако и отряд Абдуллы вместе со своим главарем тоже уничтожен. Сухов передает гарем в распоряжение Чагина, а сам уезжает на поезде навстречу мирной жизни.
Вот такой сюжет придумали в Коктебеле Ежов с Ибрагимбековым. Ну а то что в итоге мы с вами увидели на экранах появилось позднее, во время доработок сценария совместно с режиссёром Владимиром Мотылём
[Источники…]Источники
При подготовке материала использовались кадры из х/ф Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», фотографии со съёмок фильма, раскадровки Владимира Мотыля и фрагменты книги Фёдора Раззакова «Белое солнце пустыни»
www.ria.ru/culture/20090812/180645855.html
www.you-books.com/book/F-Razzakov/Beloe-Solncze-Pustyni
www.m24.ru/galleries/4323
www.istpravda.ru/museums/14849/
www.culture.ru/news/55082
30 марта 1970 года на экраны нашей страны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Рассказывать вам о сюжете этой картины и о том как её полюбили зрители думаю не стоит. Поэтому я решил рассказать о том, каким мог бы быть этот фильм, если бы его снимали по первоначальному сценарию. Ведь сюжет этих набросков мало напоминает то, что позднее превратится в легендарный фильм
Но сначала немного истории.
в 1967 году, после триумфа «Неуловимых мстителей» руководителям Экспериментальной творческой киностудии пришла идея снять нечто подобное и у себя. В качестве создателя такого кино выбор пал на Андрея Михалкова-Кончаловского, а тот, в свою очередь, взял себе в соавторы сценариста Фридриха Горенштейна. Буквально за считанные недели они написали сценарий под названием «Басмачи». Речь в нем шла о том, как басмачи переманивают на свою сторону милицейский отряд, состоявший преимущественно из дехкан, но командир возвращает своих бойцов обратно, придя в самое логово врага. В ролях красного командира и главаря басмачей авторы сценария видели двух молодых звезд тогдашнего советского кино: Николая Губенко и Болота Бейшеналиева. Но руководителей ЭТК такой сюжет не устроил. В итоге Кончаловскому было дано задание написать новый сценарий на ту же «басмаческую» тему, но уже в соавторстве с другими авторами: титулованным Валентином Ежовым и молодым Рустамом Ибрагимбековым
Чтобы быть в теме, Ежов решил привлечь к работе над сценарием людей, знавших историю борьбы с басмачеством не понаслышке — то бишь героев гражданской войны. Встреч с такими людьми у Ежова было несколько, однако и они мало что ему дали в плане создания нетленного сюжета. Все их рассказы сводились к стандартным атрибутам приключенческого жанра: песчаные барханы, погони, засады, отравленные колодцы и т. д. А если в чьих-то рассказах и всплывало «нечто», то это нельзя было включать в сценарий по цензурным соображениям. Но именно так он нашёл «изюминку» будущего сценария. Уже не надеясь на чудо, Ежов спросил у одного бывшего кавалерийского комбрига, случались ли в его боевой биографии хоть какие-нибудь смешные эпизоды. «Конечно, были! — ответил комбриг. — Иногда преследуемые басмачи бросали в пустыне свои гаремы. Прискачешь к какому-нибудь колодцу, а около него женщины сидят, мужья давно ускакали. Оставить в пустыне — погибнут. Приходилось вместо преследования банды сопровождать «неожиданный подарочек» к ближайшему кишлаку. Намучаешься с ними».
Это было как раз то, что надо. Сопровождение брошенного курбашой гарема могло стать стержнем фильма, все остальные эпизоды можно было уже накручивать вокруг. 7 июня 1967 года в ЭТК поступила сценарная заявка от Ежова и Ибрагимбекова на сценарий «Пустыня». 8-го ее рассмотрела сценарно-редакционная коллегия, а на следующий день со сценаристами был заключен договор на написание сценария. Спустя несколько дней Ежов, Ибрагимбеков и будущий режиссер фильма Михалков-Кончаловский отправились в Коктебель, чтобы в уютном Доме писателей родить на свет хит всех времен и народов. С первых же дней работа заспорилась. Сюжет был выбран такой: красный боец Федор Сухов возвращается домой, но в пути вынужден сделать небольшую остановку, чтобы сопроводить до города гарем главаря басмачей Абдуллы. Однако спустя некоторое время Кончаловский внезапно утратил всякий интерес к басмаческой теме — ему предложили экранизировать «Дворянское гнездо» к 150-летию Тургенева и Ежов с Ибрагимбековым заканчивали сценарий сами. В конце июля 67-го первый вариант сценария под названием «Пустыня» был закончен.
Вот вкратце его сюжет:
Красноармеец Федор Сухов возвращается домой из Средней Азии. По дороге он находит в пустыне закопанного по горло в песок Саида, которого таким образом наказал заклятый враг Джавдет. Сухов его откапывает, и почти что волоком (Саид был ранен) пытается дотащить до ближайшего населенного пункта — захолустного городка Педжента. По дороге они едва не нарываются на банду Абдуллы, который ограбил проезжавший по пустыне караван. Спрятавшись за барханами, Сухов и Саид наблюдают за нападением, и Саид рассказывает красноармейцу, что Абдулла вот уже несколько дней пытается разыскать свой гарем, который он бросил в песках, спасаясь от красноармейцев.
В Педженте Сухов собирается оставить Саида лечиться, а сам сесть на поезд. Однако выясняется, что поезд вот уже несколько дней как вышел из строя. А тут еще Сухова угораздило встретиться с отрядом, в котором он служил. Его командир Чагин уговаривает своего бывшего подчиненного стать комендантом города на те две недели, пока отряд не уничтожит банду Абдуллы. Более того, Сухову передается на попечение и гарем курбаши, который красноармейцы обнаружили несколько дней назад в пустыне. Сухов вынужден подчиниться Чагину, поскольку рассчитывает за эти две недели починить своими силами поезд.
В течение нескольких дней Сухов чинит поезд, привлекая к этой работе и девятерых жен Абдуллы. Те работают с удовольствием, поскольку считают Сухова своим новым господином. Во время пребывания в городе Сухов знакомится с бывшим ротмистром царской армии Верещагиным, который работает телеграфистом, и его женой Ириной. По воле сценаристов, Ирина избалованная светская женщина, увлеченная романтикой Востока. Эта увлеченность приводит ее к тому, что она внезапно… влюбляется в Саида и собирается уйти от мужа. Между мужчинами возникает конфликтная ситуация, которая едва не заканчивается смертоубийством. В дело вовремя вмешивается Сухов — ему удается «разрулить» ситуацию и не допустить кровопролития.
Тем временем к городу подходит банда Абдуллы. Тот еще не знает, что отряд Чагина ушел из Педжента, поэтому присылает парламентера с требованием вернуть ему гарем. Сухов идет за советом к Саиду и Верещагину. Те советуют не связываться с Абдуллой и вернуть ему гарем. Но Сухов иного мнения. Он толкает речь про то, что Советская власть освободила этих женщин и будет защищать до конца. Правда, Сухов рассчитывает в этом деле на поддержку своих друзей, но те отказываются ему помогать. Саиду надо отомстить Джавдету за смерть отца, а Верещагину просто до лампочки конфликт Советской власти с Абдуллой. Сухову, естественно, грустно от такого расклада, но делать нечего — надо принимать бой в одиночку. Но в тот момент когда Абдулла нападает на город, на помощь Сухову приходят его передумавшие друзья. В этой схватке они оба погибают, однако и отряд Абдуллы вместе со своим главарем тоже уничтожен. Сухов передает гарем в распоряжение Чагина, а сам уезжает на поезде навстречу мирной жизни.
Вот такой сюжет придумали в Коктебеле Ежов с Ибрагимбековым. Ну а то что в итоге мы с вами увидели на экранах появилось позднее, во время доработок сценария совместно с режиссёром Владимиром Мотылём. Ну а подробный рассказ о съёмках фильма можно почитать в других моих постах о съёмках этого фильма: Как снимали «Белое солнце пустыни» и Съёмки «Белого солнца пустыни»
[Источники…]Источники
При подготовке материала использовались кадры из х/ф Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», фотографии со съёмок фильма, раскадровки Владимира Мотыля и фрагменты книги Фёдора Раззакова «Белое солнце пустыни»
www.ria.ru/culture/20090812/180645855.html
www.you-books.com/book/F-Razzakov/Beloe-Solncze-Pustyni
www.m24.ru/galleries/4323
www.istpravda.ru/museums/14849/
www.culture.ru/news/55082
Смотрите также:
 |
 |
 |
 |
 |
| «Белое солнце пустыни» Продолжение и предыстория. |
Вырезанная сцена из «Неуловимых мстителей» |
«Гостья из будущего» Сцены не попавшие в фильм |
Вырезанная сцена из «Каникул Петрова и Васечкина» |
Вырезанные сцены из сериала «Ликвидация» |
From Wikipedia, the free encyclopedia
| White Sun of the Desert | |
|---|---|
 |
|
| Directed by | Vladimir Motyl[2] |
| Written by | Valentin Yezhov Rustam Ibragimbekov[2] |
| Produced by | Experimental Studio of Mosfilm |
| Starring | Anatoly Kuznetsov Spartak Mishulin Pavel Luspekayev |
| Cinematography | Eduard Rozovsky |
| Music by | Isaac Schwartz (song lyrics by Bulat Okudzhava) |
| Distributed by | Lenfilm Mosfilm |
|
Release date |
[1] |
|
Running time |
85 min[2] |
| Country | Soviet Union |
| Language | Russian |
White Sun of the Desert (Russian: Белое солнце пустыни, romanized: Beloye solntse pustyni) is a 1970 Soviet Ostern film.[1]
Its blend of action, comedy, music and drama, as well as memorable quotes, made it highly successful at the Russian box-office, and it retains high domestic approval. Its main theme song, «Your Noble Highness Lady Fortune» (Ваше благородие, госпожа Удача, music: Isaac Schwartz, lyrics: Bulat Okudzhava, performed by Pavel Luspekayev) became a hit. The film is watched by Russian cosmonauts before most space launches as a good luck ritual.[3]
Plot[edit]
The setting is the east shore of the Caspian Sea (modern Turkmenistan) where the Red Army soldier Fyodor Sukhov has been fighting the Civil War in Russian Asia for a number of years. The movie opens with a panoramic shot of a bucolic Russian countryside. Katerina Matveyevna, Sukhov’s beloved wife, is standing in a field. Awakening from this daydream, Sukhov is walking through the Central Asian desert – a stark contrast to his homeland.[4] He finds Sayid buried in the sand. Sayid, an austere Central Asian, comes to Sukhov’s rescue in sticky situations throughout the movie. Sukhov frees Sayid, and they strike a friendly but reticent relationship. While traveling together they are caught up in a desert fight between a Red Army cavalry unit and Basmachi guerrillas. The cavalry unit commander, Rakhimov, leaves to Sukhov the harem, which was abandoned by the Basmachi leader Abdullah, for temporary protection. He also leaves a young Red Army soldier, Petrukha, to assist Sukhov with the task, and proceeds to pursue the fleeing Abdullah.
Sukhov and women from Abdullah’s harem return to a nearby shore village. There, Sukhov charges the local museum’s curator with protecting the women, and prepares to head home. Sukhov hopes to «modernize» the wives of the harem, and make them part of the modern society. He urges them to take off their burqa and reject polygamy. The wives are loath to do this, though, and as Sukhov takes on the role of protector, the wives declare him their new husband.
Soon, looking for a seaway across the border, Abdullah and his gang come to the same village and find Abdullah’s wives. Sukhov is bound to stay. Hoping to obtain help and weapons, Sukhov and Petrukha visit Pavel Vereschagin, a former Tsar’s customs official. Vereschagin warms to Petrukha who reminds him of his dead son, but after discussing the matter with his nagging wife, Vereschagin refuses. Sukhov finds a machine gun and a case of dynamite that he plants on Abdullah’s ship. Meanwhile, Abdullah has confronted his wives, and is preparing to punish them for their «dishonor», as they did not kill themselves when Abdullah left them. Sukhov manages to capture and lock Abdullah as a hostage, but after he leaves, Abdullah convinces Gyulchatai, the youngest wife of the harem, to free him and then kills Gyulchatai and Petrukha.
The museum curator shows Sukhov an ancient underground passage that leads to the sea. Sukhov and the women of the harem attempt to escape through the passage, but on arriving at the seashore they are impelled to hide in a large empty oil tank. Abdullah discovers that and plans on setting the oil tank on fire.
Enraged at the cold-hearted murder of Petrukha, Vereschagin decides to help Sukhov and takes Abdullah’s ship. Sayid also helps Sukhov, and together they fend off Abdullah’s gang. Vereschagin, unaware of the dynamite on the ship and not hearing Sukhov’s shouted warnings, tragically dies on the exploding ship.
Sukhov kills Abdullah and his gang, and returns the harem to Rakhimov. He then begins his journey home on foot, having refused a horse since a horse is merely «a nuisance».[5] Whether Sukhov will make it home to his beloved wife is unclear: the revolution is not over in Central Asia, and an exemplary Red Army soldier like Sukhov may well be needed.
Cast[edit]
- Anatoly Kuznetsov as Fyodor Ivanovich Sukhov – a Red Army soldier, who returns home on foot through the desert after recovering in a hospital from wounds sustained in the war. He shows much wisdom and skill in his actions and a gentle human side in his graphical dreams, in which he mentally writes letters to his beloved wife.
- Georgi Yumatov was chosen for the role, but was dismissed for a drunken brawl right before the shooting. Therefore, Motyl called for Kuznetsov, who was the second choice during the selection.[6]
- Pavel Luspekayev as Pavel Vereschagin – a former tsarist customs official. Vereschagin lives a lonely life as the only Russian, along with his wife, in a remote village. The walls of his house are covered with pictures of the military campaigns where he was awarded and wounded. The Civil War has left him without an official job and a place to go. He is a big man and a straightforward person with a tendency for alcoholism due to the nostalgia for his past. He has an arsenal of weapons that brings both conflicting parties (Sukhov and Abdullah’s men) to his house at some point in the film. Initially neutral, he eventually takes the side of Sukhov.
- This was Luspekayev’s last role. A World War II veteran and an experienced stage actor, both of his feet were amputated in the 1960s due to past injuries. Given Luspekayev’s condition, Motyl wrote a script for a man on crutches. Luspekayev refused, arguing that his character should appear not as a cripple, but as a strong person who died prematurely.[6] While filming, he walked on prosthetic legs and had to take regular rests due to pain. He died in 1970.[7][8]
- Spartak Mishulin as Sayid – a skilled man of few words. He seeks revenge on Dzhavdet, a Basmachi gang leader who killed his father, robbed his family and buried him in sand for a slow death; otherwise his motives and reactions are unclear and unexpected. For example, after Sukhov dug him out, Sayid, instead of thanking him, says, «Why did you dig me out? There will be no rest while Dzhavdet is alive.» Sayid suddenly appears every now and then to help Sukhov against bandits, but when asked why, simply replies that he has «heard shooting,»[9] giving an impression that he just seeks Dzhavdet via any armed conflict nearby. His relationship with Sukhov is well described by the following dialogue:[10]
Sayid – Now, leave. You can’t stay alone.
Sukhov – I can’t. Abdullah will kill the women.
Sayid – Abdullah will kill you. These are his wives. In half an hour it will be too late. I must leave.
Sukhov – I counted on you.
Sayid – If I get killed, who will take revenge on Dzhavdet?
Sukhov – I counted on you, Sayid.
- In contrast with Luspekayev, this was one of the first movie roles for Mishulin, although he was previously active as a TV and stage actor.[11]
- Kakhi Kavsadze as Abdullah – a cunning Basmachi leader with no respect for human life. Both he and Sayid originate from poor families, and their fathers were friends. However, contrary to Sayid, Abdullah took the path of banditry.[12]
- Kavsadze, a Georgian by nationality, fit very well into the role of an Asian gang leader. However, he had never ridden a horse, while his character was supposed to be a keen horse rider. He never actually rides in the film, but only sits on a horse, or even on the shoulders of an assistant.[11]
- Nikolai Godovikov as Petrukha – a young Red Army soldier. He attempts to court Gyulchatai, aiming to start a family.
- Coincidentally, Godovikov started dating Denisova (one of the actresses who played Gyulchatai) after filming.[6]
- Raisa Kurkina as Nastasia, Vereschagin’s wife – Vereschagin’s life partner, a homemaker who balances his mental instability.
- Galina Luchai as Katerina Matveyevna, Sukhov’s wife – she appears in the film only through Sukhov’s dreams, to elaborate his character.
- Abdullah’s wives[13]
- Alla Limenes – Zarina
- Tatyana Krichevskaya, Galina Dashevskaya and Galina Umpeleva as Dzhamilya
- Zinaida Rakhmatova as Gyuzel
- Svetlana Slivinskaya as Saida
- Velta Chebotarenok (Deglav) as Khafiza
- Tatyana Tkach as Zukhra
- Lidiya Smirnova as Leila
- Zinaida Rachmatova as Zulfia
- Tatiana Fedotova and Tatiana Denisova as Gyulchatai – the youngest and most curious wife of Abdullah. She is the only wife who interacts with outsiders, i.e., Sukhov and Petrukha.
Most of Abdullah’s wives were portrayed by non-professional actors. As they wore burqas most of the time, they were often replaced by other women, and even by male soldiers from the military unit stationed nearby.[14] Motyl shot a few semi-nude scenes involving some of the wives for character development, but those scenes were cut by censors.[6]
- Honorifics
The script makes use of different levels of honorifics in the Russian language. All locals are known only by their first names. Vereschagin is called by his last name by strangers and by his first name «Pasha» (short for Pavel) by his wife. Sukhov is called by his last name, often with an addition of a symbolic title «Krasnoarmeets» (Red Army Soldier) or «Tovarishch» (Comrade). Vereschagin initially also calls him Sukhov, but by the end of the film warms up to the less formal and more respectful «Fyodor Ivanovich»[5] after Sukhov called him «Pavel Artemievich».
Weapons[edit]
Sukhov supposedly uses a Lewis gun (bottom), though in some scenes it is replaced by a Russian DT gun with an attached dummy cooling shroud.[15] Abdullah’s gang members carry rifles similar to the one shown on top.
Weaponry is explicitly used to characterize and develop the characters. Sayid is found barehanded in the beginning; he acquires all his weapons through the film and uses them skillfully. Sukhov gives him a knife, which Sayid later throws to kill an attacker. He shoots a carbine taken from a bandit, whom he strangled using rope as a lasso (while helping Sukhov).[9] His skills in riding are demonstrated when he jumps on a horse, back first, while walking backwards and keeping his enemy at gunpoint. He then slowly rides away, sitting backwards on the horse.
Vereschagin, despite having an arsenal of small arms, fights barehanded, which accentuates his brute force and straightforwardness. Both Sukhov and Abdullah use handguns rather than rifles, as appropriate to their leading, officer-like positions. Sukhov carries a Nagant M1895 revolver, a personal gift from brigade commander M. N. Kovun,[9] whereas Abdullah uses a Mauser C96. To deal with Abdullah’s gang, Sukhov fetches and fixes a machine gun. Petrukha has a rifle that jams and never fires when needed.[10] Abdullah’s gang members carry carbines and long knives characteristic of the time and region.
Development and script[edit]
The director, Vladimir Motyl, said such films as Stagecoach and High Noon influenced him and he has described the film as being a «cocktail» of both an adventurous Russian folktale and a western. Initially several directors, including Andrei Tarkovsky and Andrei Konchalovsky, were offered the film but they turned it down, Motyl claims,[16] for two main reasons. Firstly, Konchalovsky thought only American actors could pull off the part of a lead role in a western, and secondly the screenplay was considered weak.[17] Motyl also initially turned down the offer, but then found himself in a no-choice situation, as he would not be given any other film to direct.[14][16]
After the first version of the film was turned down by Mosfilm, Valentin Yezhov and Rustam Ibragimbekov were assigned to improve the script. Ibragimbekov was chosen by his nationality as an expert on the East, though in reality he was raised in Russia and never been in the region.[4] A war veteran told Yezhov a story of a harem abandoned by a Basmachi leader on the run, which became the pivot of the new script.[6][17] Further rewriting came from Motyl after he replaced Konchalovsky as director. Motyl completely reshaped and put forward the character of Vereschagin – all his dialogues, as well as about 60% of the entire script, were rewritten and improvised during the filming. Motyl also came up with the idea of revealing Sukhov’s personality through his dreams, in which he writes letters to his beloved wife. Those letters were composed by Mark Zakharov, a friend of Motyl’s.[16]
Years later, Konchalovsky praised the final script as a masterpiece.[4]
Filming[edit]
Sukhov’s dream scenes were filmed first, near Luga, Leningrad Oblast, while the bulk of the film was shot on the western shore of the Caspian Sea near Makhachkala, Dagestan. The sand dune scenes were shot in the Karakum Desert near Mary, Turkmenistan, with the museum scenes filmed in the nearby ancient city of Merv.[18] The distinctive Kyz Kala (Gyz Gala) fortress, for example, figures prominently. The dune scenes were demanding for actors, who had to make large circles in the scorching heat to approach the shooting location without leaving telltale traces in the sand. However, the heaviest burden fell on Mishulin, who spent in total several days in a box buried in sand while preparing for several takes of the opening scene.[6][19] The village buildings and Vereschagin’s house were temporary mockups that had to be regularly repaired due to damage from frequent winds.[16]
Horse riding scenes were performed by the special stunt unit formed for the War and Peace film series. Although it did not perform any stunts in this film, one member of the unit died in an accident during filming. Some other accidents occurred due to poor overall discipline and security. For example, a cut is seen on Vereschagin’s face when he fights on the ship. He received this cut in a drunken brawl the day before. Also, some props were stolen by local thieves one night. Security was improved after Motyl hired a local criminal leader for the role of a member of Abdullah’s gang.[6][17]
The film involved two dangerous stunts, the first when Abdullah’s officer, supposedly thrown out by Vereschagin, breaks through a second-floor window and falls to the sand below. The other is when Sukhov jumps from an oil tank set on fire. Both stunts were performed by Valentin Faber.[11]
Soundtrack[edit]
The soundtrack to White Sun of the Desert is one of the most celebrated of Russian film.[citation needed] The score contains guitar music, balalaika and orchestral music. Many of the songs are inspired by the 1960s urban song culture of metropolitan Russia. These songs are often just a voice and guitar, with the music drawing on traditional Russian folk music.[20]
«Your Honor, Lady Luck», sung by Vereschagin accompanied by a guitar, is a musical motif in the film. The lyrics talk about loneliness, humanity’s dependence on luck, and hope for love. These lyrics mirror many of the film’s central themes, including Vereschagin’s sadness and Sukhov’s separation from Katerina. The song was written by Okudzhava on personal request by Motyl, who had worked with him in the past.[16] A line from this song, «Nine grams to your heart, stop, don’t call,» is included as an homage in the script of the 1985 Soviet action film Independent Steaming (Одиночное плавание).
Reception[edit]
White Sun of the Desert became one of the most popular movies of all time in Russia, where it has attained the status of a classic. It helped popularize Eastern movies.[20]
The film received no awards during the Soviet era. With 34.5 million viewers, it was one of the most popular films of 1970, but it lost the 1970 USSR State Prize to By the Lake. Only in 1998 was it awarded the state prize by President Boris Yeltsin, being recognized as culturally significant.[21]
The film received limited attention in the West. It was shown at a Soviet film festival at the little Carnegie Theatre in 1973, meant to tie in with Leonid Brezhnev’s visit to the United States. Other than that, it was not widely released. Roger Greenspun, the New York Times movie critic, referred to it as «escapist entertainment».[22]
Legacy[edit]
In 1998, the creators of the film were awarded the 1997 Russian Federation State Prize in Literature and Arts, nearly 30 years after the film left the silver screen.[21] A Russian computer game was released based on the film.[23] Vereschagin became a symbol of a customs officer, with monuments honoring him erected in Amvrosiivka (2001),[24] Kurgan (2007),[25] Moscow (2008)[7] and Luhansk (2011).[26] Monuments of Sukhov are known in Donetsk (ca. 2009) and Samara (2012)[27]
All crew members boarding Russian space flights are committed to watch «White Sun of the Desert» before the launch,[28][29][30] and the names of Abdullah’s wives are assigned to several craters on Venus.[31][32]
In 2008, Rustam Ibragimbekov announced that he had begun production on a White Sun of the Desert TV spinoff entitled «White Sun of the Desert – Home».[33][34]
Popular quotes[edit]
Many popular sayings have entered the Russian language from the film. The first is by far the best known.
- The Orient is a delicate matter (Восток — дело тонкое); refers to any complicated or difficult matter, not necessarily «oriental» in nature.
- I feel ashamed for the great state (Мне за державу обидно); used in the face of failure of the state or collapse of its institutions. This phrase, among other things, was used as the title of several books by notable writers.[35]
- Are there questions? No, there aren’t! (Вопросы есть? Вопросов нет!); refers to the commanding tone of an officer that will not hear objections to his command. This line was reused in the 2005 Afghanistan war epic The 9th Company.
- Customs gives the green light (Таможня дает добро!); refers to any type of approval, especially reluctant approval.
- His grenades are the wrong caliber (Да гранаты у него не той системы); refers to or to comment upon any kind of excuse, particularly a pathetic one. The line wasn’t scripted, but improvised by the actor.
- Gyulchatai, show your sweet face (Гюльчатай, открой личико); a popular Russian saying for boys to say to girls.
- I’m writing to you again, dear Katerina Matveyevna… (Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвеевна…); used as a prelude to a letter humorously emphasizing its unusually high volume of detail or frequency of mail exchange.
- Mahmud, light the fire (Махмуд, поджигай!); used when embarking cheerfully on some difficult potentially dangerous mission.
- I’m unlucky in death, maybe I’ll be lucky in love (Не везёт мне в смерти, повезёт в любви); main song refrain.
References[edit]
- ^ a b Peter Rollberg (2009). Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema. US: Rowman & Littlefield. pp. 745–746. ISBN 978-0-8108-6072-8.
- ^ a b c Белое солнце пустыни. mosfilm.ru
- ^ Heath, Roderick (4 April 2015). «White Sun of the Desert (Beloe Solntse Pustyni, 1970)». Ferdy on Films.
- ^ a b c N. M. Zorkaya. «Белое солнце пустыни» — рейтинг зрителя. portal-slovo.ru
- ^ a b Yezhov and Ibragimbekov, p. 7
- ^ a b c d e f g Белое солнце пустыни. yclop.com.ua
- ^ a b «В Москве будет установлен памятник таможеннику Верещагину из «Белого солнца пустыни». Newsru (10 January 2008).
- ^ Павел Луспекаев. Верещагин – свой среди своих. c-cafe.ru
- ^ a b c Yezhov and Ibragimbekov, p. 2
- ^ a b Yezhov and Ibragimbekov, p. 5
- ^ a b c Я не догадывался, что стал знаменитым… kino-teatr.ru (8 May 2006)
- ^ Yezhov and Ibragimbekov, p. 4
- ^ Белое солнце пустыни. kino-teatr.ru
- ^ a b За год до смерти Владимир Мотыль рассказал о своей непростой кинематографической судьбе. km.ru
- ^ Пулемет товарища Сухова Archived 3 June 2013 at the Wayback Machine. tainy.info
- ^ a b c d e «Владимир Мотыль interview» (in Russian). Retrieved 23 January 2007.
- ^ a b c Федор Раззаков: Гибель советского кино. Интриги и споры. 1918–1972, Эксмо, 2008, ISBN 978-5-699-26846-7
- ^ АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ: «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ» МЕНЯ СОГРЕЛО И ОБОЖГЛО Trud (30 December 2005)
- ^ Как снимали «Белое солнце пустыни». smena.ru (4 February 2005); «.. the heat during the shooting was such that chicken eggs could be cooked in sand within 10 minutes».
- ^ a b David Gillespie (2003). «The Sounds of Music: Soundtrack and Song in Soviet Film». Slavic Review. 62 (3): 477–478. JSTOR 3185802.
- ^ a b Владимир Мотыль: в кино нужна госполитика. Kommersant. №104 (1507) (11 June 1998)
- ^ Roger Greenspun (23 June 1973) «Screen: Simplicity Marks Soviet Films in Festival:Five Premieres Held at Little Carnegie Collective-Farm Tale Is Among Features». The New York Times.
- ^ 1С:Коллекция игрушек «Белое солнце пустыни». zone-x.ru
- ^ ПАМЯТНИК ТЕМ, КОМУ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО. Trud (23 August 2001)
- ^ Курганские таможенники установили памятник Павлу Верещагину из «Белого солнца пустыни». vsesmi.ru (7 August 2007)
- ^ В Луганске открыли памятник Павлу Верещагину. podrobnosti.ua (21 June 2011)
- ^ Памятник товарищу Сухову из «Белого солнца пустыни» появился в Самаре. ria.ru (7 December 2012)
- ^ ESA – 50 years of humans in space – Gagarin’s traditions – printer version. Esa.int. Retrieved on 18 April 2012.
- ^ «Kosmonavtika» (in Russian). Archived from the original on 10 February 2007. Retrieved 21 January 2007.
- ^ American space ‘nerd’ blasts off. BBC (7 April 2007)
- ^ ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ АСТРОНОМИИ. galspace.spb.ru
- ^ Nomenclature Search Results. wr.usgs.gov
- ^ Katerina Migulina (3 October 2008). «РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ: «ФИЛЬМ ЗАКОНЧИТСЯ ТЕМ, ЧТО СУХОВ НАЙДЕТ В ПЕСКАХ ГОЛОВУ САИДА».» Trud
- ^ Раскроют прошлое красноармейца Сухова. colta.ru (25 September 2008)
- ^ E.g.
- Alexander Lebed (1995). За державу обидно—. Грэгори-Пэйдж. ISBN 9785748200066.
- Yury Mukhin (2006). За державу обидно!. Яуза. ISBN 978-5-87849-198-3.
- Dmitry Puchkov (2008). За державу обидно: вопр. и ответы про СССР. Крылов. ISBN 978-5-9717-0723-3.
- Aleksandr Kontorovich [in Russian] (2014). За Державу обидно!. Яуза : Эксмо. ISBN 978-5-457-26138-9.
Bibliography[edit]
- Yezhov, Valentin and Ibragimbekov, Rustam (2001) Белое солнце пустыни, Vagrius, ISBN 5-264-00694-6
External links[edit]
- Beloe solntse pustyni at IMDb
- White Sun of the Desert at Rotten Tomatoes
- White Sun of the Desert at AllMovie
- Final script (in Russian)
- Watch White Sun of the Desert online on the official Mosfilm YouTube channel (with English subtitles)
- Eric, Berger (8 April 2020). «I was bored, so I watched the movie that astronauts must view before launch». Ars Technica. Retrieved 8 April 2020.
From Wikipedia, the free encyclopedia
| White Sun of the Desert | |
|---|---|
 |
|
| Directed by | Vladimir Motyl[2] |
| Written by | Valentin Yezhov Rustam Ibragimbekov[2] |
| Produced by | Experimental Studio of Mosfilm |
| Starring | Anatoly Kuznetsov Spartak Mishulin Pavel Luspekayev |
| Cinematography | Eduard Rozovsky |
| Music by | Isaac Schwartz (song lyrics by Bulat Okudzhava) |
| Distributed by | Lenfilm Mosfilm |
|
Release date |
[1] |
|
Running time |
85 min[2] |
| Country | Soviet Union |
| Language | Russian |
White Sun of the Desert (Russian: Белое солнце пустыни, romanized: Beloye solntse pustyni) is a 1970 Soviet Ostern film.[1]
Its blend of action, comedy, music and drama, as well as memorable quotes, made it highly successful at the Russian box-office, and it retains high domestic approval. Its main theme song, «Your Noble Highness Lady Fortune» (Ваше благородие, госпожа Удача, music: Isaac Schwartz, lyrics: Bulat Okudzhava, performed by Pavel Luspekayev) became a hit. The film is watched by Russian cosmonauts before most space launches as a good luck ritual.[3]
Plot[edit]
The setting is the east shore of the Caspian Sea (modern Turkmenistan) where the Red Army soldier Fyodor Sukhov has been fighting the Civil War in Russian Asia for a number of years. The movie opens with a panoramic shot of a bucolic Russian countryside. Katerina Matveyevna, Sukhov’s beloved wife, is standing in a field. Awakening from this daydream, Sukhov is walking through the Central Asian desert – a stark contrast to his homeland.[4] He finds Sayid buried in the sand. Sayid, an austere Central Asian, comes to Sukhov’s rescue in sticky situations throughout the movie. Sukhov frees Sayid, and they strike a friendly but reticent relationship. While traveling together they are caught up in a desert fight between a Red Army cavalry unit and Basmachi guerrillas. The cavalry unit commander, Rakhimov, leaves to Sukhov the harem, which was abandoned by the Basmachi leader Abdullah, for temporary protection. He also leaves a young Red Army soldier, Petrukha, to assist Sukhov with the task, and proceeds to pursue the fleeing Abdullah.
Sukhov and women from Abdullah’s harem return to a nearby shore village. There, Sukhov charges the local museum’s curator with protecting the women, and prepares to head home. Sukhov hopes to «modernize» the wives of the harem, and make them part of the modern society. He urges them to take off their burqa and reject polygamy. The wives are loath to do this, though, and as Sukhov takes on the role of protector, the wives declare him their new husband.
Soon, looking for a seaway across the border, Abdullah and his gang come to the same village and find Abdullah’s wives. Sukhov is bound to stay. Hoping to obtain help and weapons, Sukhov and Petrukha visit Pavel Vereschagin, a former Tsar’s customs official. Vereschagin warms to Petrukha who reminds him of his dead son, but after discussing the matter with his nagging wife, Vereschagin refuses. Sukhov finds a machine gun and a case of dynamite that he plants on Abdullah’s ship. Meanwhile, Abdullah has confronted his wives, and is preparing to punish them for their «dishonor», as they did not kill themselves when Abdullah left them. Sukhov manages to capture and lock Abdullah as a hostage, but after he leaves, Abdullah convinces Gyulchatai, the youngest wife of the harem, to free him and then kills Gyulchatai and Petrukha.
The museum curator shows Sukhov an ancient underground passage that leads to the sea. Sukhov and the women of the harem attempt to escape through the passage, but on arriving at the seashore they are impelled to hide in a large empty oil tank. Abdullah discovers that and plans on setting the oil tank on fire.
Enraged at the cold-hearted murder of Petrukha, Vereschagin decides to help Sukhov and takes Abdullah’s ship. Sayid also helps Sukhov, and together they fend off Abdullah’s gang. Vereschagin, unaware of the dynamite on the ship and not hearing Sukhov’s shouted warnings, tragically dies on the exploding ship.
Sukhov kills Abdullah and his gang, and returns the harem to Rakhimov. He then begins his journey home on foot, having refused a horse since a horse is merely «a nuisance».[5] Whether Sukhov will make it home to his beloved wife is unclear: the revolution is not over in Central Asia, and an exemplary Red Army soldier like Sukhov may well be needed.
Cast[edit]
- Anatoly Kuznetsov as Fyodor Ivanovich Sukhov – a Red Army soldier, who returns home on foot through the desert after recovering in a hospital from wounds sustained in the war. He shows much wisdom and skill in his actions and a gentle human side in his graphical dreams, in which he mentally writes letters to his beloved wife.
- Georgi Yumatov was chosen for the role, but was dismissed for a drunken brawl right before the shooting. Therefore, Motyl called for Kuznetsov, who was the second choice during the selection.[6]
- Pavel Luspekayev as Pavel Vereschagin – a former tsarist customs official. Vereschagin lives a lonely life as the only Russian, along with his wife, in a remote village. The walls of his house are covered with pictures of the military campaigns where he was awarded and wounded. The Civil War has left him without an official job and a place to go. He is a big man and a straightforward person with a tendency for alcoholism due to the nostalgia for his past. He has an arsenal of weapons that brings both conflicting parties (Sukhov and Abdullah’s men) to his house at some point in the film. Initially neutral, he eventually takes the side of Sukhov.
- This was Luspekayev’s last role. A World War II veteran and an experienced stage actor, both of his feet were amputated in the 1960s due to past injuries. Given Luspekayev’s condition, Motyl wrote a script for a man on crutches. Luspekayev refused, arguing that his character should appear not as a cripple, but as a strong person who died prematurely.[6] While filming, he walked on prosthetic legs and had to take regular rests due to pain. He died in 1970.[7][8]
- Spartak Mishulin as Sayid – a skilled man of few words. He seeks revenge on Dzhavdet, a Basmachi gang leader who killed his father, robbed his family and buried him in sand for a slow death; otherwise his motives and reactions are unclear and unexpected. For example, after Sukhov dug him out, Sayid, instead of thanking him, says, «Why did you dig me out? There will be no rest while Dzhavdet is alive.» Sayid suddenly appears every now and then to help Sukhov against bandits, but when asked why, simply replies that he has «heard shooting,»[9] giving an impression that he just seeks Dzhavdet via any armed conflict nearby. His relationship with Sukhov is well described by the following dialogue:[10]
Sayid – Now, leave. You can’t stay alone.
Sukhov – I can’t. Abdullah will kill the women.
Sayid – Abdullah will kill you. These are his wives. In half an hour it will be too late. I must leave.
Sukhov – I counted on you.
Sayid – If I get killed, who will take revenge on Dzhavdet?
Sukhov – I counted on you, Sayid.
- In contrast with Luspekayev, this was one of the first movie roles for Mishulin, although he was previously active as a TV and stage actor.[11]
- Kakhi Kavsadze as Abdullah – a cunning Basmachi leader with no respect for human life. Both he and Sayid originate from poor families, and their fathers were friends. However, contrary to Sayid, Abdullah took the path of banditry.[12]
- Kavsadze, a Georgian by nationality, fit very well into the role of an Asian gang leader. However, he had never ridden a horse, while his character was supposed to be a keen horse rider. He never actually rides in the film, but only sits on a horse, or even on the shoulders of an assistant.[11]
- Nikolai Godovikov as Petrukha – a young Red Army soldier. He attempts to court Gyulchatai, aiming to start a family.
- Coincidentally, Godovikov started dating Denisova (one of the actresses who played Gyulchatai) after filming.[6]
- Raisa Kurkina as Nastasia, Vereschagin’s wife – Vereschagin’s life partner, a homemaker who balances his mental instability.
- Galina Luchai as Katerina Matveyevna, Sukhov’s wife – she appears in the film only through Sukhov’s dreams, to elaborate his character.
- Abdullah’s wives[13]
- Alla Limenes – Zarina
- Tatyana Krichevskaya, Galina Dashevskaya and Galina Umpeleva as Dzhamilya
- Zinaida Rakhmatova as Gyuzel
- Svetlana Slivinskaya as Saida
- Velta Chebotarenok (Deglav) as Khafiza
- Tatyana Tkach as Zukhra
- Lidiya Smirnova as Leila
- Zinaida Rachmatova as Zulfia
- Tatiana Fedotova and Tatiana Denisova as Gyulchatai – the youngest and most curious wife of Abdullah. She is the only wife who interacts with outsiders, i.e., Sukhov and Petrukha.
Most of Abdullah’s wives were portrayed by non-professional actors. As they wore burqas most of the time, they were often replaced by other women, and even by male soldiers from the military unit stationed nearby.[14] Motyl shot a few semi-nude scenes involving some of the wives for character development, but those scenes were cut by censors.[6]
- Honorifics
The script makes use of different levels of honorifics in the Russian language. All locals are known only by their first names. Vereschagin is called by his last name by strangers and by his first name «Pasha» (short for Pavel) by his wife. Sukhov is called by his last name, often with an addition of a symbolic title «Krasnoarmeets» (Red Army Soldier) or «Tovarishch» (Comrade). Vereschagin initially also calls him Sukhov, but by the end of the film warms up to the less formal and more respectful «Fyodor Ivanovich»[5] after Sukhov called him «Pavel Artemievich».
Weapons[edit]
Sukhov supposedly uses a Lewis gun (bottom), though in some scenes it is replaced by a Russian DT gun with an attached dummy cooling shroud.[15] Abdullah’s gang members carry rifles similar to the one shown on top.
Weaponry is explicitly used to characterize and develop the characters. Sayid is found barehanded in the beginning; he acquires all his weapons through the film and uses them skillfully. Sukhov gives him a knife, which Sayid later throws to kill an attacker. He shoots a carbine taken from a bandit, whom he strangled using rope as a lasso (while helping Sukhov).[9] His skills in riding are demonstrated when he jumps on a horse, back first, while walking backwards and keeping his enemy at gunpoint. He then slowly rides away, sitting backwards on the horse.
Vereschagin, despite having an arsenal of small arms, fights barehanded, which accentuates his brute force and straightforwardness. Both Sukhov and Abdullah use handguns rather than rifles, as appropriate to their leading, officer-like positions. Sukhov carries a Nagant M1895 revolver, a personal gift from brigade commander M. N. Kovun,[9] whereas Abdullah uses a Mauser C96. To deal with Abdullah’s gang, Sukhov fetches and fixes a machine gun. Petrukha has a rifle that jams and never fires when needed.[10] Abdullah’s gang members carry carbines and long knives characteristic of the time and region.
Development and script[edit]
The director, Vladimir Motyl, said such films as Stagecoach and High Noon influenced him and he has described the film as being a «cocktail» of both an adventurous Russian folktale and a western. Initially several directors, including Andrei Tarkovsky and Andrei Konchalovsky, were offered the film but they turned it down, Motyl claims,[16] for two main reasons. Firstly, Konchalovsky thought only American actors could pull off the part of a lead role in a western, and secondly the screenplay was considered weak.[17] Motyl also initially turned down the offer, but then found himself in a no-choice situation, as he would not be given any other film to direct.[14][16]
After the first version of the film was turned down by Mosfilm, Valentin Yezhov and Rustam Ibragimbekov were assigned to improve the script. Ibragimbekov was chosen by his nationality as an expert on the East, though in reality he was raised in Russia and never been in the region.[4] A war veteran told Yezhov a story of a harem abandoned by a Basmachi leader on the run, which became the pivot of the new script.[6][17] Further rewriting came from Motyl after he replaced Konchalovsky as director. Motyl completely reshaped and put forward the character of Vereschagin – all his dialogues, as well as about 60% of the entire script, were rewritten and improvised during the filming. Motyl also came up with the idea of revealing Sukhov’s personality through his dreams, in which he writes letters to his beloved wife. Those letters were composed by Mark Zakharov, a friend of Motyl’s.[16]
Years later, Konchalovsky praised the final script as a masterpiece.[4]
Filming[edit]
Sukhov’s dream scenes were filmed first, near Luga, Leningrad Oblast, while the bulk of the film was shot on the western shore of the Caspian Sea near Makhachkala, Dagestan. The sand dune scenes were shot in the Karakum Desert near Mary, Turkmenistan, with the museum scenes filmed in the nearby ancient city of Merv.[18] The distinctive Kyz Kala (Gyz Gala) fortress, for example, figures prominently. The dune scenes were demanding for actors, who had to make large circles in the scorching heat to approach the shooting location without leaving telltale traces in the sand. However, the heaviest burden fell on Mishulin, who spent in total several days in a box buried in sand while preparing for several takes of the opening scene.[6][19] The village buildings and Vereschagin’s house were temporary mockups that had to be regularly repaired due to damage from frequent winds.[16]
Horse riding scenes were performed by the special stunt unit formed for the War and Peace film series. Although it did not perform any stunts in this film, one member of the unit died in an accident during filming. Some other accidents occurred due to poor overall discipline and security. For example, a cut is seen on Vereschagin’s face when he fights on the ship. He received this cut in a drunken brawl the day before. Also, some props were stolen by local thieves one night. Security was improved after Motyl hired a local criminal leader for the role of a member of Abdullah’s gang.[6][17]
The film involved two dangerous stunts, the first when Abdullah’s officer, supposedly thrown out by Vereschagin, breaks through a second-floor window and falls to the sand below. The other is when Sukhov jumps from an oil tank set on fire. Both stunts were performed by Valentin Faber.[11]
Soundtrack[edit]
The soundtrack to White Sun of the Desert is one of the most celebrated of Russian film.[citation needed] The score contains guitar music, balalaika and orchestral music. Many of the songs are inspired by the 1960s urban song culture of metropolitan Russia. These songs are often just a voice and guitar, with the music drawing on traditional Russian folk music.[20]
«Your Honor, Lady Luck», sung by Vereschagin accompanied by a guitar, is a musical motif in the film. The lyrics talk about loneliness, humanity’s dependence on luck, and hope for love. These lyrics mirror many of the film’s central themes, including Vereschagin’s sadness and Sukhov’s separation from Katerina. The song was written by Okudzhava on personal request by Motyl, who had worked with him in the past.[16] A line from this song, «Nine grams to your heart, stop, don’t call,» is included as an homage in the script of the 1985 Soviet action film Independent Steaming (Одиночное плавание).
Reception[edit]
White Sun of the Desert became one of the most popular movies of all time in Russia, where it has attained the status of a classic. It helped popularize Eastern movies.[20]
The film received no awards during the Soviet era. With 34.5 million viewers, it was one of the most popular films of 1970, but it lost the 1970 USSR State Prize to By the Lake. Only in 1998 was it awarded the state prize by President Boris Yeltsin, being recognized as culturally significant.[21]
The film received limited attention in the West. It was shown at a Soviet film festival at the little Carnegie Theatre in 1973, meant to tie in with Leonid Brezhnev’s visit to the United States. Other than that, it was not widely released. Roger Greenspun, the New York Times movie critic, referred to it as «escapist entertainment».[22]
Legacy[edit]
In 1998, the creators of the film were awarded the 1997 Russian Federation State Prize in Literature and Arts, nearly 30 years after the film left the silver screen.[21] A Russian computer game was released based on the film.[23] Vereschagin became a symbol of a customs officer, with monuments honoring him erected in Amvrosiivka (2001),[24] Kurgan (2007),[25] Moscow (2008)[7] and Luhansk (2011).[26] Monuments of Sukhov are known in Donetsk (ca. 2009) and Samara (2012)[27]
All crew members boarding Russian space flights are committed to watch «White Sun of the Desert» before the launch,[28][29][30] and the names of Abdullah’s wives are assigned to several craters on Venus.[31][32]
In 2008, Rustam Ibragimbekov announced that he had begun production on a White Sun of the Desert TV spinoff entitled «White Sun of the Desert – Home».[33][34]
Popular quotes[edit]
Many popular sayings have entered the Russian language from the film. The first is by far the best known.
- The Orient is a delicate matter (Восток — дело тонкое); refers to any complicated or difficult matter, not necessarily «oriental» in nature.
- I feel ashamed for the great state (Мне за державу обидно); used in the face of failure of the state or collapse of its institutions. This phrase, among other things, was used as the title of several books by notable writers.[35]
- Are there questions? No, there aren’t! (Вопросы есть? Вопросов нет!); refers to the commanding tone of an officer that will not hear objections to his command. This line was reused in the 2005 Afghanistan war epic The 9th Company.
- Customs gives the green light (Таможня дает добро!); refers to any type of approval, especially reluctant approval.
- His grenades are the wrong caliber (Да гранаты у него не той системы); refers to or to comment upon any kind of excuse, particularly a pathetic one. The line wasn’t scripted, but improvised by the actor.
- Gyulchatai, show your sweet face (Гюльчатай, открой личико); a popular Russian saying for boys to say to girls.
- I’m writing to you again, dear Katerina Matveyevna… (Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвеевна…); used as a prelude to a letter humorously emphasizing its unusually high volume of detail or frequency of mail exchange.
- Mahmud, light the fire (Махмуд, поджигай!); used when embarking cheerfully on some difficult potentially dangerous mission.
- I’m unlucky in death, maybe I’ll be lucky in love (Не везёт мне в смерти, повезёт в любви); main song refrain.
References[edit]
- ^ a b Peter Rollberg (2009). Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema. US: Rowman & Littlefield. pp. 745–746. ISBN 978-0-8108-6072-8.
- ^ a b c Белое солнце пустыни. mosfilm.ru
- ^ Heath, Roderick (4 April 2015). «White Sun of the Desert (Beloe Solntse Pustyni, 1970)». Ferdy on Films.
- ^ a b c N. M. Zorkaya. «Белое солнце пустыни» — рейтинг зрителя. portal-slovo.ru
- ^ a b Yezhov and Ibragimbekov, p. 7
- ^ a b c d e f g Белое солнце пустыни. yclop.com.ua
- ^ a b «В Москве будет установлен памятник таможеннику Верещагину из «Белого солнца пустыни». Newsru (10 January 2008).
- ^ Павел Луспекаев. Верещагин – свой среди своих. c-cafe.ru
- ^ a b c Yezhov and Ibragimbekov, p. 2
- ^ a b Yezhov and Ibragimbekov, p. 5
- ^ a b c Я не догадывался, что стал знаменитым… kino-teatr.ru (8 May 2006)
- ^ Yezhov and Ibragimbekov, p. 4
- ^ Белое солнце пустыни. kino-teatr.ru
- ^ a b За год до смерти Владимир Мотыль рассказал о своей непростой кинематографической судьбе. km.ru
- ^ Пулемет товарища Сухова Archived 3 June 2013 at the Wayback Machine. tainy.info
- ^ a b c d e «Владимир Мотыль interview» (in Russian). Retrieved 23 January 2007.
- ^ a b c Федор Раззаков: Гибель советского кино. Интриги и споры. 1918–1972, Эксмо, 2008, ISBN 978-5-699-26846-7
- ^ АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ: «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ» МЕНЯ СОГРЕЛО И ОБОЖГЛО Trud (30 December 2005)
- ^ Как снимали «Белое солнце пустыни». smena.ru (4 February 2005); «.. the heat during the shooting was such that chicken eggs could be cooked in sand within 10 minutes».
- ^ a b David Gillespie (2003). «The Sounds of Music: Soundtrack and Song in Soviet Film». Slavic Review. 62 (3): 477–478. JSTOR 3185802.
- ^ a b Владимир Мотыль: в кино нужна госполитика. Kommersant. №104 (1507) (11 June 1998)
- ^ Roger Greenspun (23 June 1973) «Screen: Simplicity Marks Soviet Films in Festival:Five Premieres Held at Little Carnegie Collective-Farm Tale Is Among Features». The New York Times.
- ^ 1С:Коллекция игрушек «Белое солнце пустыни». zone-x.ru
- ^ ПАМЯТНИК ТЕМ, КОМУ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО. Trud (23 August 2001)
- ^ Курганские таможенники установили памятник Павлу Верещагину из «Белого солнца пустыни». vsesmi.ru (7 August 2007)
- ^ В Луганске открыли памятник Павлу Верещагину. podrobnosti.ua (21 June 2011)
- ^ Памятник товарищу Сухову из «Белого солнца пустыни» появился в Самаре. ria.ru (7 December 2012)
- ^ ESA – 50 years of humans in space – Gagarin’s traditions – printer version. Esa.int. Retrieved on 18 April 2012.
- ^ «Kosmonavtika» (in Russian). Archived from the original on 10 February 2007. Retrieved 21 January 2007.
- ^ American space ‘nerd’ blasts off. BBC (7 April 2007)
- ^ ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ АСТРОНОМИИ. galspace.spb.ru
- ^ Nomenclature Search Results. wr.usgs.gov
- ^ Katerina Migulina (3 October 2008). «РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ: «ФИЛЬМ ЗАКОНЧИТСЯ ТЕМ, ЧТО СУХОВ НАЙДЕТ В ПЕСКАХ ГОЛОВУ САИДА».» Trud
- ^ Раскроют прошлое красноармейца Сухова. colta.ru (25 September 2008)
- ^ E.g.
- Alexander Lebed (1995). За державу обидно—. Грэгори-Пэйдж. ISBN 9785748200066.
- Yury Mukhin (2006). За державу обидно!. Яуза. ISBN 978-5-87849-198-3.
- Dmitry Puchkov (2008). За державу обидно: вопр. и ответы про СССР. Крылов. ISBN 978-5-9717-0723-3.
- Aleksandr Kontorovich [in Russian] (2014). За Державу обидно!. Яуза : Эксмо. ISBN 978-5-457-26138-9.
Bibliography[edit]
- Yezhov, Valentin and Ibragimbekov, Rustam (2001) Белое солнце пустыни, Vagrius, ISBN 5-264-00694-6
External links[edit]
- Beloe solntse pustyni at IMDb
- White Sun of the Desert at Rotten Tomatoes
- White Sun of the Desert at AllMovie
- Final script (in Russian)
- Watch White Sun of the Desert online on the official Mosfilm YouTube channel (with English subtitles)
- Eric, Berger (8 April 2020). «I was bored, so I watched the movie that astronauts must view before launch». Ars Technica. Retrieved 8 April 2020.
Сорок лет назад вышел один из самых популярных отечественных фильмов «Белое солнце пустыни». Юбилей легендарного фильма Владимира Мотыля отметят 12 августа на 17-м фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге.
«Белое солнце пустыни» — советский фильм режиссера Владимира Мотыля, повествующий о приключениях красноармейца Сухова, спасающего от кровожадного бандита Абдуллы его гарем.
Во второй половине 1960-х на волне популярности фильмов о «Неуловимых мстителях» советское кинематографическое руководство обратилось к жанру истерна. С 1966 года в кинематографической системе СССР начала работать ЭТК (Экспериментальная творческая киностудия). Она представляла собой коммерческое предприятие с широкой свободой действий по подбору кадров и выбору творческого материала и могла не согласовывать свои действия с Госкино СССР. В 1967 году руководство ЭТК пригласило к работе над сценарием нового приключенческого фильма Андрея Михалкова Кончаловского и Фридриха Горенштейна. Первоначальный вариант сценария под рабочим названием «Басмачи» руководство киностудии не устроил.
Однако снять картину в этом жанре руководству студии все-таки хотелось, и сценаристу Валентину Ежову (автору «Баллады о солдате») поручили в течение полутора месяцев создать сценарий отечественного истерна.
Местом действия Ежов выбрал среднеазиатскую пустыню. Поскольку сам он в пустыне никогда не был, поэтому в соавторы взял своего товарища по Высшим сценарным курсам Рустама Ибрагимбекова как «знатока Востока».
«Скрыв, что никогда в жизни не был в Средней Азии и в революционных событиях не участвовал, – вспоминал Ибрагимбеков, – я обещал… поделиться своим восточным опытом…».
Собирая материал для сценария, Ежов встречался с ветеранами Гражданской войны, которые в 1920-е годы сражались с басмачами в Средней Азии. Один из них вспомнил, как басмачи, спасаясь от настигавших их красных отрядов, бросали в пустыне свои гаремы. Под конец рассказчик добавил, что эти женщины в паранджах доставляли в пустыне немало хлопот. Так появился новый сценарий с рабочим названием «Пустыня».
В январе 1968 года начались пробы актеров. На роль Федора Сухова пробовалось несколько актеров. В финале остались двое: Анатолий Кузнецов и Георгий Юматов, который и был утвержден на эту роль. Однако буквально накануне съемок Юматов подрался и на какое то время выбыл из строя. Владимир Мотыль вновь обратился к Кузнецову, кандидатуру которого первоначально на пробах отклонили. Актер оказался не занят и согласился принять участие в съемках.
Долго не могли найти исполнителя на роль таможенника Павла Верещагина, неторопливого и обстоятельного, знающего цену жизни и смерти. Мотыль поделился проблемой с режиссером Геннадием Полокой, который тут же показал ему одну из актерских проб Павла Луспекаева. Проба была блестящей.
До «Белого солнца пустыни» Луспекаев как киноактер был малоизвестен, он всегда оставался верен театру. Но в 1967 году актеру сделали операцию по ампутации обеих стоп, и о возвращении в театр не могло быть и речи.
Полока уверил Мотыля, что скоро Луспекаев будет в форме, потом добавил: «Придумай сцены в воде. Он плавает как рыба. И поезжай к нему. Полюбуйся его торсом. Рубцы на плече, на руке — это же биография!»
Мотыль предложил Луспекаеву сняться на костылях и даже хотел соответствующим образом изменить сценарий. Павел Луспекаев отмел все эти варианты и поставил условие, что сниматься будет без каскадеров, и режиссер согласился.
Владимир Мотыль долго думал, кого пригласить на роль Катерины Матвеевны. В коридоре «Ленфильма» он случайно встретил Галину Лучай, тележурналистку из редакции кинопрограмм Центрального телевидения. В Ленинграде ее съемочная группа делала очередной фильм по истории кино. Режиссер сразу понял, что именно она должна сыграть Катерину Матвеевну. Галина Лучай согласилась сыграть роль русской красавицы после долгих уговоров.
Многие из приглашенных на съемки были непрофессиональными актерами. Только три «жены» Абдуллы из девятерых были актрисами. Так как после съемок основных сцен девушкам нужно было срочно возвращаться на работу, в эпизодах отсутствующих «жен» пришлось дублировать солдатами. Местные девушки отказались участвовать в съемках, и «жен» подбирали со всего Союза.
Съемки фильма на производственной базе студии «Ленфильм» начались 24 июля 1968 года. Первые отснятые сцены фильма — сон Сухова, где он кует серп и затем пьет чай вместе с супругой и остальным гаремом, снимались на натуре возле деревни Мистолово под Лугой.
В августе Мотыль продолжил съемки в Дагестане, где на берегу Каспийского моря, в нескольких километрах от города Каспийска были построены декорации — несколько бутафорских домиков, дом Верещагина, сад с виноградником, нефтеналивные баки. К берегу был подогнан старый баркас махачкалинского рабочего порта «Дербент», переименованный на время съемок в «Тверь».
11 ноября 1968 года худсовет Экспериментальной студии отсмотрел проявленный материал фильма «Белое солнце пустыни». Впечатление у присутствующих было неоднозначным. Начальника главной сценарной коллегии «Мосфильма» Марианну Качалову более всего возмутила сцена, где жены Абдуллы выбираются из бака. Сухов ожидает увидеть на их лицах радость спасения, но они пробегают мимо него, падают на колени и рыдают над мертвым мужем — рвут волосы, причитают, как положено по восточному обычаю. Финал пришлось изменить.
Помимо гибели Верещагина и Петрухи, в материале еще была сцена сумасшествия Настасьи, жены Верещагина. От этой сцены в фильме остался лишь маленький кусочек. Сократили драку Верещагина на баркасе и две «эротические сцены» с Катериной Матвеевной, переходящей с задранной юбкой через ручей, и женами Абдуллы, которые разделись во время своего заточения в баке.
Руководство студии попыталось даже сменить Мотыля на Владимира Басова. После отказа Басова и вовсе решили смыть весь отснятый материал. И только на окончательном совещании в Госкино, состоявшемся весной 1969 года, зампред Баскаков вынес решение: «Производство придется завершить. И Мотыля на картине оставить».
Именно благодаря Владимиру Басову появилась реплика Сухова «Восток — дело тонкое». «Восток требует совершенно иного подхода, у них там другое мышление, у мусульман. Должен быть тонкий подход», — напутствовал он Мотыля перед экспедицией.
В мае 1969 года съемочная группа активно занялась выбором мест натурных съемок для нового финала картины, причем уже не в Дагестане, а в Средней Азии. Остановились на Туркмении, на окрестностях города Байрам-Али. В Каракумах выпало так много дождей, что пески скрылись под высокими травами. Мотыль со своими ассистентами облетел на вертолете сотни километров, однако нужной натуры не нашел. На помощь пришла армия: солдаты местного военного округа за считанные недели пропололи десятки квадратных километров пустыни. В результате столь большой паузы в работе группа лишилась актрисы, игравшей Гюльчатай. Артистка цирка Татьяна Денисова, исполнявшая эту роль, получила в цирке свой собственный номер и от съемок отказалась. На роль утвердили 17-летнюю студентку Вагановского училища Татьяну Федотову.
В результате второй съемочной экспедиции фильм сильно изменился, и у него фактически появилась другая концовка. Съемки завершились в сентябре 1969 года.
18 сентября 1969 года фильм лично смотрел генеральный директор «Мосфильма» Владимир Сурин и остался недоволен просмотром. С его подачи акт о приемке картины в Госкино подписывать не стали.
Судьбу картины решил счастливый случай. В один из осенних дней 1969 года руководитель Коммунистической партии Леонид Брежнев решил посмотреть у себя на даче какой нибудь новый отечественный фильм. И дежурный по фильмохранилищу на свой страх и риск отправил к нему «Белое солнце пустыни». Брежневу картина очень понравилась.
В марте 1970 года в Москве состоялась премьера «Белого солнца пустыни». Федор Сухов и его окружение обрели поистине легендарную славу. Отдельные образы, фразы из картины сразу пошли в народ: «За державу обидно», «Таможня дает «добро», «Восток – дело тонкое» и др.
Просмотр «Белого солнца пустыни» стал неотъемлемой частью подготовки советских, а затем и российских космонавтов. Кассета с фильмом есть даже на борту Международной космической станции.
По итогам опроса, посвященного столетию российского кино, фильм «Белое солнце пустыни» был выбран для акции «Последний сеанс тысячелетия». Сеанс этот состоялся 31 декабря 1999 года в московском киноцентре «Дом Ханжонкова».
Материал подготовлен на основе инфорации открытых источников
Парадоксально, но факт: в содержании этого фильма на первый взгляд нет ничего особенного, однако вот уже почти полвека эту картину с неослабевающим вниманием смотрит не одно поколение наших соотечественников.
Закрытая премьера фильма «Белое солнце пустыни» состоялась 14 декабря 1969 года в Ленинградском Доме Кино. В широкий прокат в СССР картина вышла 30 марта 1970 года.

Фильм снят Экспериментальной творческой киностудией (ЭТК) при «Мосфильме», которая появилась на свет в 1965 году благодаря стараниям двух людей: народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии кинорежиссера Григория Чухрая и предпринимателя Владимира Познера (кстати, отца нынешнего телеакадемика). Режиссером фильма после достаточно долгих убеждений стал 40-летний Владимир Мотыль.
30 января авторы сценария ( Андрей Михалков-Кончаловский, Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков) поменяли название сценария «Пустыня» на «Спасите гарем». С начала марта 68-го в 1-м павильоне «Ленфильма» начались интенсивные пробы актеров на главные и второстепенные роли. Заглянем в съемочный журнал фильма:
4 марта — проба с Ломакиным, Кавсадзе (как мы помним, на роль Абдуллы пробуется также известный актер Отар Коберидзе, конкуренцию которому отныне будет составлять никому доселе неизвестный 33-летний актер Тбилисского театра имени Шота Руставели Кахи Кавсадзе).
К. Кавсадзе родился в 1935 году в Грузии. Ему было шесть лет, когда его отец ушел на фронт и не вернулся. Матери, которая работала врачом, пришлось одной поднимать двух сыновей (у Кахи есть брат, который моложе его на два года). После окончания десятилетки Кавсадзе поступил в театральный институт. В кино снимался редко, исключительно в эпизодах на «Грузия-фильме» («Поезд № 13», «Мамлюк», «Песня Этери», «Цветок на снегу»), поэтому роль Абдуллы можно смело считать его первой значительной ролью в большом кинематографе.
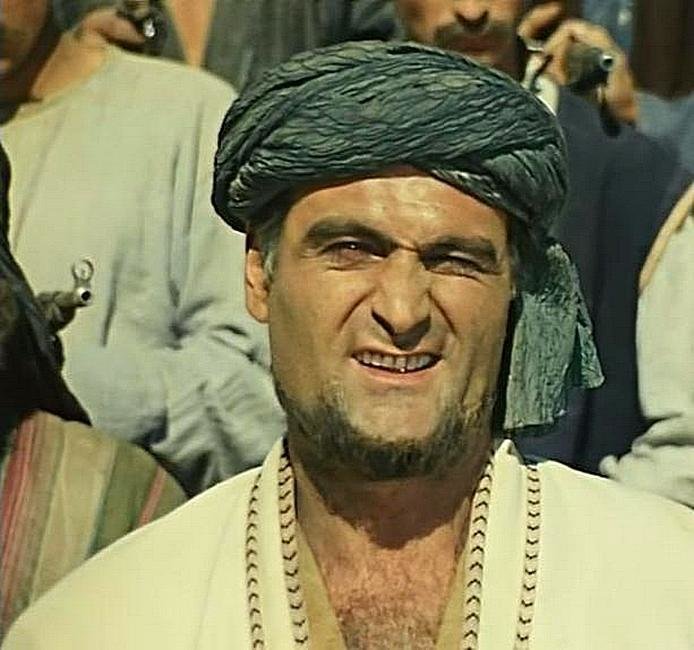
7 марта — пробы с Коберидзе, Лосевым (на роль Петрухи).
11 марта — пробы с Мулаевым (на роль Саида), Вахлиным, Логвиновым, Лосевым.
28 марта — пробы с Юматовым.(на роль красноармейца Сухова)
1 апреля — пробы с Юматовым, Зиминым, Шевцовым.
3 апреля — пробы с Ильиным, Мишулиным, Ледогоровым (двое последних пробуются на роль Саида, но победит в этом споре, как мы знаем, Спартак Мишулин).
С. Мишулин родился 22 октября 1926 года в Москве. В конце 30-х его мать, которая занимала пост заместителя наркома золотопромышленности, арестовали как «врага народа», и Спартак остался на попечении отчима. Но с ним у него отношения не сложились, и мальчик уехал в Кемеровскую область, где поступил в 1-ю артиллерийскую школу. Но проучился там недолго — вскоре его арестовали как расхитителя социалистической собственности (он открутил несколько лампочек в сельском клубе, чтобы использовать их во время премьерного спектакля в артшколе) и впаяли несколько лет тюрьмы.
Освободившись в середине 40-х, Мишулин уехал в Тверскую область, где устроился худруком в Дом культуры поселка Удомля. В начале 50-х стал актером сначала Калининского, затем Омского драмтеатра. В 1960 году во время гастролей в Москве его пригласили в труппу Театра сатиры. Однако всесоюзную славу Мишулин обрел благодаря телевидению, а именно — ролью пана Директора в «Кабачке «13 стульев», премьера которого состоялась на ТВ в январе 66-го.
Приглашение Мишулина на роль Саида для многих выглядело неожиданным, но только не для Мотыля. Он давно был знаком с Мишулиным — еще в 50-е ставил в Омском драмтеатре пьесу «Клоп», где Спартак играл сразу несколько ролей. Мотыль был просто очарован актером, поскольку такие трансформации были подвластны в те годы разве только великому Аркадию Райкину. Уже тогда стало понятно, что Мишулин — глубокий актер, которому подвластно все, от эксцентрики до психологического характера.

18 апреля — пробы с Копеляном (Верещагин), Ефимовым (Сухов).
19 апреля — пробы с Ефимовым, Мишулиным.
6 мая — Мотыль вылетает в Махачкалу (Дагестанская АССР) для выбора мест натурных съемок и пробудет там до 15 мая. За три дня до его возвращения в ЭТК придет сообщение из Главного управления художественной кинематографии, что режиссерский сценарий наконец-то принят.
23 мая — пробы с Юматовым(Сухов), Локтевым (Петруха).
20 — 22 мая — пробы с Юматовым (Сухов), Кавсадзе (Абдулла).
Весьма тяжело шел процесс выбора актера на роль Петрухи. Ни один из тех, кто пробовался на эту роль, не устраивал Мотыля, который поначалу и сам, видимо, плохо себе представлял, каким должен быть этот герой: то ли с трагическим оттенком, то ли с комическим. Именно этим можно объяснить тот факт, что на роль Петрухи пробовался даже суперкомик советского экрана Савелий Крамаров. Он приехал в Питер на пробы 17 июня и пробыл там один день. Больше на съемочной площадке он не объявлялся, поскольку через две недели Мотыль вспомнил про молодого питерского актера Николая Годовикова, которого он снял в крохотном эпизоде в собственной «Жене, Женечке…»
Н. Годовиков родился 6 мая 1950 года в Ленинграде. Поскольку его родители не имели никакого отношения к искусству — они работали на заводе «Россия», никаких поводов сниматься в кино у Годовикова не было. Все вышло совершенно случайно: в 15 лет его заметил ассистент режиссера с «Ленфильма» и пригласил сыграть эпизодическую роль в картине «Республика ШКИД» (от роли Годовикова в ней остались два крохотных эпизода, один из них — секунд на пять — в самом конце фильма). После этого фамилия Годовикова попала в картотеку студии, откуда его и вытянул на «Женю…» Мотыль. В новой работе режиссера актеру впервые предстояло сыграть одну из центральных ролей.

С середины июня на берегу Каспийского моря, в нескольких километрах от города Каспийска началась постройка декораций для фильма. Руководил художник-декоратор «Ленфильма» А. Тимофеев. По чертежам главного художника фильма Б. Каплан-Маневич строители начали возводить в песчаных дюнах несколько бутафорских домиков, дом Верещагина, сад с виноградником, нефтеналивные баки.
К берегу был подогнан старый баркас Махачкалинского рабочего порта «Дербент», переименованный на время съемок в «Тверь». Чуть позже сюда же приедет группа комбинированных съемок.
На территории в один квадратный метр художники создадут из пенопласта, красок и фантазии макет среднеазиатского захолустного городка Педжента.
Ассистент режиссера Э. Ясан привезет из Средней Азии двух верблюдов, которые вольются в банду Абдуллы, а из Москвы прибудет конный взвод Московского кавалерийского полка, ветерана кинематографии, участвовавшего в съемках таких фильмов, как: «Война и мир», «Одиночество», «Сергей Лазо» и др.
На съемках фильма «Белое солнце пустыни»
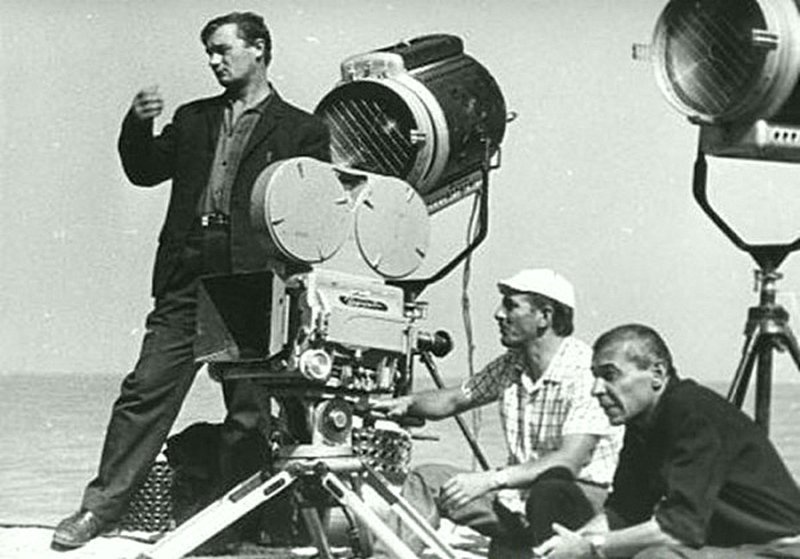
В начале июля наконец-то были найдены актеры на роли Верещагина, Катерины Матвеевны и Гюльчатай. Ими стали актеры: Павел Луспекаев из БДТ, Галина Лучай с «ТВ Останкино», Татьяна Денисова из Московского циркового училища.
П. Луспекаев родился 20 апреля 1927 года в Луганске. В начале 40-х окончил Луганское ремесленное училище. Подростком попал в партизанский отряд, неоднократно участвовал в боевых операциях в составе партизанской разведгруппы. Во время одного из боев был ранен. В 44-м оставил военную службу и осел в Ворошиловграде — его зачислили в труппу местного драмтеатра. В 46-м Луспекаев поступил в Театральное училище имени Щепкина. Закончив его, мечтал играть на столичной сцене, но препятствием к этому послужил его южный говор. В итоге Луспекаев был распределен в Тбилисский государственный русский драмтеатр имени Грибоедова. Тогда же дебютировал в кино, снявшись на «Грузия-фильме» в двух картинах: «Они спустились с гор» (1955), «Тайна двух океанов» (1957).
Павел Луспекаев активно снимался в кино в 60-ые годы. Вот некоторые из этих фильмов: «Рожденные жить» (1960), «Балтийское небо» (1961), «Душа зовет» (1962), «Поезд милосердия» (1964), «Иду на грозу» (1965), «Три толстяка», «Залп «Авроры» (оба — 1966), «Республика ШКИД» (1967) и др. Ролей могло бы быть значительно больше, если бы не болезнь ног, которая с начала 60-х все сильнее стала донимать актера (сказывались голодное военное детство и губительное курение еще со школьных лет). В итоге в 62-м Луспекаеву ампутировали сначала пальцы на одной стопе, а через пять лет — на второй. Мотыль был прекрасно осведомлен об этих фактах, поэтому, несмотря на большое желание снимать в роли Верещагина именно Луспекаева, он не решался беспокоить актера до тех пор, пока окончательно не стало ясно, что ни один из пробуемых актеров с этой ролью не справляется. Поэтому в один из тех июльских дней Мотыль лично отправился к Луспекаеву домой, чтобы поговорить с ним о Верещагине. Далее послушаем его собственный рассказ:
«Первое, что меня удивило — Луспекаев был на ногах! Если мне не изменяет память, двери он открыл сам. Никаких костылей. Только в руке палка. И с ходу разговоры — о роли, о сценарии, который он уже прочитал… Я тогда пообещал, что часть сцен на баркасе мы перенесем в павильон, чтобы ему не мучиться в штормовую качку. Однако Луспекаев с этим не согласился, так как, по его мнению, Верещагин должен был выглядеть по-настоящему сильным и здоровым. И от сцены в море он не отказался…»
Стоит отметить, что кандидатура Луспекаева не всех в съемочной группе устроила. Некоторые ворчали, что зачем шить какие-то особые, дорогие сапоги с внутренними упорами для Луспекаева, если можно заменить его здоровым актером. Но все эти разговоры мгновенно прекратились, едва начались съемки.

4 июля было решено заменить название будущего фильма на «Белое солнце пустыни» (в качестве других названий фильма фигурировали и такие: «Длинная дорога напрямик», «Прощай, пустыня», «Прощай, гарем»). Два дня спустя это название утвердил директор ЭТК Владимир Познер.
А теперь вновь полистаем съемочный журнал.
9 июля — состоялась проба с Юматовым.
10 июля — проба с Лучай (Катерина Матвеевна).
В середине июля Мотыль планировал начать натурные съемки, причем снимать решил с эпизода «сон Сухова», чтобы раскрепоститься от прежних сценарных впечатлений, почувствовать собственный стилевой камертон. Местом для съемок были выбраны окрестности у деревни Мистолово под Лугой. Однако в назначенный день съемки сорвались. Дело было так.
Съемочная группа в полном составе на двух автобусах подъехала к гостинице «Октябрьская», где проживал исполнитель роли Сухова Георгий Юматов. Однако в оговоренное время актер к группе не вышел. Послали за ним гонца — администратора. Но тот вернулся назад ни с чем, сообщив, что дверь номера артиста закрыта изнутри, а на стуки никто не отвечает. Зная о загульном нраве Юматова (хотя вот уже два года тот был в «завязке», но ожидать от него можно было всякого), решили выломать дверь. А открыв ее, застали жуткую картину: артист лежал на кровати, что называется, вдребезги пьяный, да еще с «разукрашенным» синяками лицом. Причины происшедшего выяснились чуть позже.
Все началось 6 июля, когда по дороге в Прибалтику погиб известный питерский кинорежиссер Никита Курихин (сын актера Федора Курихина, известного зрителям по фильмам: «Веселые ребята», «Цирк», «Вратарь» и др.). Курихин-младший стал не менее знаменитым, чем его отец, но только в режиссуре. Он дебютировал в большом кино в 1959 году, поставив вместе с Теодором Вульфовичем ставший впоследствии культовым фильм «Последний дюйм». Затем были картины: «Мост перейти нельзя» (1960), «Барьер неизвестности» (1962), «Жаворонок» (1965), «Не забудь… станция Луговая» (1967). В последнем фильме главную мужскую роль сыграл Георгий Юматов, у которого с Курихиным сложились очень теплые отношения. Когда режиссеру понадобилось купить автомобиль, именно Юматов напряг все свои связи и выручил друга (в противном случае очередь Курихина на «колеса» подошла бы через несколько лет). И вот в начале июля Курихин с семьей выехал на отдых в Прибалтику, однако до места назначения так и не доехал — автомобиль попал в аварию, режиссер погиб.
Когда об этой трагедии узнал Юматов, он впал в транс: ведь злосчастный автомобиль режиссеру помог купить именно он. И теперь актера мучила совесть, хотя вины в случившемся за ним, конечно же, не было. Ситуацию усугубил приход в номер Юматова вскоре после похорон режиссера целой компании дружков во главе с известным актером Александром Сусниным (родился в 1929 году, в 1952 году окончил ВГИК, известность получил, снявшись вместе с Юматовым в фильме «Жестокость» (1959). Суснин предложил другу помянуть погибшего водкой, на что у Юматова просто не было сил сопротивляться. А спустя час-другой между собутыльниками возникла драка. Поводом к ней послужила оброненная кем-то из присутствующих фраза, что в гибели Курихина есть косвенная вина и Юматова. Актер бросился с кулаками на обидчика, но поскольку остальные присутствующие поддержали оскорбителя, победа осталась не за Юматовым. Короче, ему здорово досталось, и особенно сильно пострадало лицо.
Когда Мотыль узнал об этом, он понял, что Юматов — отрезанный ломоть. Стало ясно, что с этим исполнителем «каши уже не сваришь», поскольку, во-первых, его лицо будет приходить в норму минимум неделю, а времени ждать уже не было (часть съемочной группы упаковала вещи, чтобы ехать в Махачкалу, а другая часть — та, что собиралась снимать «сон Сухова» должна была присоединиться к ней в самом конце июля); во-вторых — не было гарантии, что «развязавший» актер не пустится в загул в экспедиции. Поэтому Мотыль отбил срочную телеграмму в Москву Анатолию Кузнецову: мол, приезжай, пропадаем. Правда, было опасение, что актер, обиженный первым отказом, может проигнорировать приглашение. Но Кузнецов оказался выше всяких амбиций и 16 июля приехал в Ленинград по первому зову. В тот день и на следующий состоялись его кинопробы.
А Юматов 16 июля отбыл в Москву. Причем уезжал он из города на Неве без копейки денег, поскольку всю имевшуюся при себе наличность пропил. Чтобы насобирать денег на обратную дорогу, он заложил гостиничным сотрудникам чуть ли не все свои вещи: одному отдал свои часы, другому паспорт, третьему костюм.
Проба Г. Юматова на роль красноармейца Сухова

Он был утвержден на роль сразу, но, ввиду сложных взаимоотношений артиста с алкоголем, Мотыль поставил ему условие: «уйдешь в запой — сниму с фильма». Съемки Юматов сорвал.

Первый съемочный день выпал на 24 июля. Почти восемь часов снимали эпизод, в котором участвовали 11 человек: Сухов, Катерина Матвеевна и 9 жен из гарема Абдуллы (некоторых жен на тот момент еще не нашли, поэтому в их ролях снимались актрисы-однодневки). Из реквизита на съемочной площадке присутствовали: прялка (прокат — 1 рубль в сутки), самовар (2 рубля в сутки), корова (3 рубля на 6 дней). Кадры, снятые в тот день, теперь известны всем: Сухов кует серп и передает его жене; на зеленой лужайке сидит гарем и одна из жен читает книгу Карла Маркса (позднее надпись на книге по требованию цензуры стыдливо закроют цветком); Катерина Матвеевна идет с коромыслом, стоит у березки и всматривается вдаль, переходит речку. Кстати, в последнем эпизоде снимались ноги совсем другой актрисы. Дело в том, что у Лучай была прекрасная фигура, но ноги не полные. А Мотылю нужны были именно пышные, кустодиевские. И вот за несколько дней до съемок он дал задание все тому же Конюшеву найти ноги Катерины Матвеевны. Причем, где и как искать, сказал конкретно: дескать, сними подвал на Кировском проспекте и смотри не на лица, а только на ноги. И Конюшев смотрел день-другой. Сколько ему при этом пришлось выслушать оскорблений от женщин, к которым он затем прицеплялся с просьбой снять их ноги в кино, одному ему и известно. Но с заданием справился — нашел-таки женщину, которая согласилась предоставить свои пышные ноги для будущего хита отечественного кинематографа. Жаль только, что имя ее кануло в безвестность.

В конце июля съемочная группа прибыла в столицу Дагестанской АССР город Махачкалу, что на берегу Каспийского моря, где уже все было готово к натурным съемкам (в окрестностях городов Каспийска и Сулака). Технически группа была укомплектована не самым лучшим образом: например, отсутствовал съемочный кран, поскольку практически вся лучшая техника «Мосфильма» была брошена на съемки широкомасштабной эпопеи Юрия Озерова «Освобождение» (съемки 1-го фильма начались ровно год назад, а в августовские дни 68-го снимались эпизоды 2-го фильма). Пришлось киношникам из «Белого солнца» сооружать кран из подручных средств — бревен и канатов. В начале августа к месту предстоящих съемок стали подтягиваться и актеры: 1-го приехал Николай Годовиков (Петруха), 2-го — Кузнецов (Сухов), Мишулин (Саид), чуть позже Луспекаев (Верещагин). Все поселились в гостинице «Кавказ».

Съемки начались в окрестностях Каспийска 3 августа в 6.30 утра и закончились в пять вечера. Весь день снимали эпизоды с участием Сухова и Саида: оба сидят у поваленного дерева и разговаривают, при этом Сухов говорит: «Подзадержался я здесь… А что у тебя с Джавдетом?», Саид: «Отца убил, меня закопал, четырех баранов забрал — больше у нас не было…» Сухов отдает свой нож и уходит; Сухов идет по пустыне.
4 августа — группа перебазировалась в Сулак, где снимались эпизоды: Сухов появляется из-за бархана, останавливается; на песке сидят Сухов и Саид, они разговаривают; Саид встает и уходит (эти эпизоды в картину не войдут).
5 августа (Сулак) — в песке торчит голова Саида; Сухов садится на песок, глядит на часы и произносит: «Два часа…», спрашивает Саида: «Давно обосновался?»; берет лопатку и начинает откапывать Саида; Сухов идет по пустыне. Съемка продолжалась с 6.30 до 16.30. В этот же день вечером Мишулин уехал в Москву. Отснятые эпизоды в окончательный вариант фильма не войдут и будут пересняты, о чем речь еще пойдет впереди.
6 августа — съемочная группа готовит к съемкам декорацию «дом Верещагина» в окрестностях Каспийска.
7 августа — снимают следующие эпизоды: Петруха подходит к дому таможенника; запрыгивает на дувал и попадает во двор; по двору ходят павлины; Верещагин внимательно наблюдает за незваным гостем сквозь в окне.

Около двенадцати дня сняли еще несколько эпизодов: четверо стариков сидят у стены дома, один из них на вопрос Сухова (за кадром) отвечает: «Давно здесь сидим…» (В этих ролях были заняты в основном непрофессиональные актеры: одного (Нижарадзе) Мотыль знал еще по «Детям Памира», другого нашел ассистент в соседней закавказской республике (Рамазанов), а третий, который спал на ящике с динамитом, вообще москвич Май-Маевский — в прошлом курьер Ленина). В час дня съемки пришлось прервать из-за непогоды — сильный ветер, дождь.
8 августа — Сухов садится у дома Верещагина и слушает доносящуюся из окна песню (кстати, песня «Ваше благородие…» пока еще только пишется композитором Исааком Шварцем и Булатом Окуджавой); со стариков взрывной волной сдувает чалмы. Съемки в тот день длились мало — с 6.30 до 10 утра, после чего вновь были прерваны из-за непогоды.
9 августа — выходной день.
Вспоминает Н. Годовиков: «Луспекаев ходил на протезах. Ему было очень трудно, но он старался этого не показывать. После съемки всегда отходил в сторонку, садился у моря, опускал ноги в воду, и у него аж слезы были на глазах. От меня он не скрывал своих эмоций. Я был доверенное лицо его жены, и когда она уезжала в Ленинград, то всегда просила: «Ты не поживешь у дяди Паши, пока меня не будет?» И я жил у него в номере. Он мне много чего рассказывал. Как он был обижен на Товстоногова за то, что тот уволил его из театра. Ему-то казалось, что он смог бы играть и дальше, но на самом деле…»
Вспоминает В. Мотыль: «По Махачкале Луспекаев передвигался с палочкой, а довезти актера до объекта — декорации дома Верещагина — не мог никакой транспорт: увязал в сыпучих песках. С паузами на отдых Луспекаеву приходилось вышагивать на больных ногах почти километр, опираясь на палку и плечо сопровождавшего ассистента или чаще жены — самоотверженной Инны Александровны. Потом ему по часу приходилось отходить в волнах Каспия, чтобы утихла боль. На съемке же гордо противился, когда предлагали упростить мизансцену, всеми способами демонстрируя, с какой легкостью он выполнит любую задачу. Лишь иногда после отснятого кадра мы видели, чего стоила ему эта легкость…»
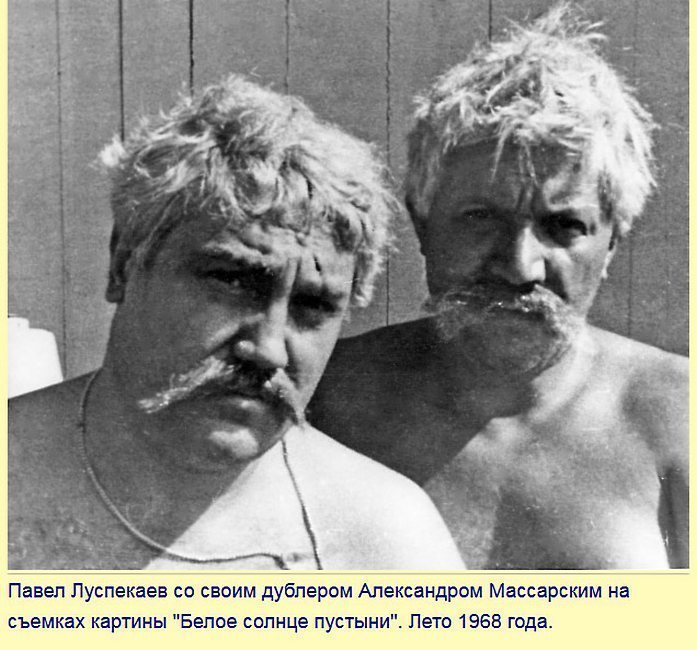
10 августа съемки продолжились. В тот день в окрестностях Каспийска снимали эпизоды: Петруха садится на песок и плачет от обиды (эпизод в картину не вошел); старики сидят у стены; Сухов отодвигает лежащего старика, открывает ящик с динамитом и поливает его водой из чайника; Сухов подбрасывает шашку с динамитом в воздух и стреляет в нее; обгорелый подпоручик Семен (В. Кадочников) подползает к ящику; пулеметная очередь пробивает дувал над головами стариков (два последних эпизода в окончательный вариант фильма не вошли).
11 августа — Сухов здоровается со стариками: «Здорово, отцы!..»; Сухов замечает ящик с динамитом; Петруха во дворе дома Верещагина; Верещагин наблюдает за Петрухой, затем втягивает его к себе в окно; Сухов садится на песок и слушает песню Верещагина; кидает камешек в окошко: «Эй, хозяин, огоньку не найдется?»; сверху на песок падает динамитная шашка; Сухов прикуривает от горящего шнура и кидает шашку обратно; Верещагин в ставнях, бросает ключи: «Заходи!»
12 августа — услышав окрик «Руки вверх!», Петруха поднимает руки; гарем садится у стены дома; Петруха плачет и обращается к Сухову: «Там старухи камнями гонят, чтобы уходил. Говорят, что Абдулла из-за них поубивает всех» (при монтаже этот монолог озвучат иначе); Сухов говорит Петрухе: «Прихвати ящичек… Никакого Абдуллы не будет»; Петруха взваливает себе на плечо ящик с динамитом; Сухов идет в сопровождении гарема. В 10 утра съемка была прервана из-за непогоды. В этот же день приехали Кахи Кавсадзе (Абдулла) и Спартак Мишулин (Саид).
13 августа снимались следующие эпизоды: жена Верещагина Настя ходит по двору и разговаривает с мужем; берет корзину с бельем; подпоручик подъезжает к дому Верещагина, взбирается на дувал; стучит плеткой в закрытые ставни; возле дома на лошади его ждет напарник по банде; поручик вылетает из окна верещагинского дома, садится на лошадь и на вопрос напарника: «Чего это ты?», отвечает: «Да, гранаты у него не той системы…»
14 августа — подпоручик вылетает из окна; гарем сидит у стены; пьяный Петруха выходит от Верещагина и горланит песню (эпизод в картину не вошел); Сухов гарему: «А вас кто сюда звал?»; Сухов с пулеметом в руках перебегает к мечети (в картину не вошел); Настя выпрыгивает из окна и бежит к морю за мужем. В тот же день должны были начаться съемки на баркасе, но их пришлось отменить из-за шторма.

15 августа — весь день шла подготовка к съемкам.
16 августа — Сухов с пулеметом подбегает к баку, за ним бежит гарем; женщины сидят в баке и смотрят вверх. Съемка длилась полдня, вторая половина — простой из-за поломки лихтвагена (машины для света).
17 — 18 августа — съемки сорваны из-за плохой погоды.
19 августа — гарем на дне бака; Верещагин чинит ставню после полета подпоручика (эпизод в картину не вошел); Настя выбрасывает из калитки оружие, садится в лодке за пулемет (эпизод в картину не вошел); Настя бежит за мужем: «Паша!»; Абдулла сидит на лошади у бака и пьет из бутылки коньяк, к нему подходит Верещагин: «А что это, никак твои ребята подпалить что-то хотят?» — «Да вот, закрылся один, а выходить не хочет». — «Федор, Петруха с тобой?» — «Нет Петрухи, Павел Артемьевич, Абдулла зарезал»; Абдулла Верещагину: «Иди, иди! Хороший дом, хорошая жена, что еще надо человеку, чтобы встретить старость».
20 августа снимались эпизоды, которые по замыслу должны были войти в финал картины, но в итоге так и не вошли, поскольку финал полностью изменили: Верещагин и Настя несут оружие в лодку; измазанный мазутом Сухов бежит к морю; Сухов плывет к баркасу и кричит Верещагину «Взорвешься!»; Сухов подплывает к мачте, борется с волнами, цепляется за обломок мачты и стреляет в Абдуллу; Абдулла прыгает с баркаса в воду и, как заправский супермен, стреляет на лету в Сухова; Абдулла падает в воду; смертельно раненный Абдулла выходит на берег, делает несколько шагов и замертво падает в ноги Сухову.
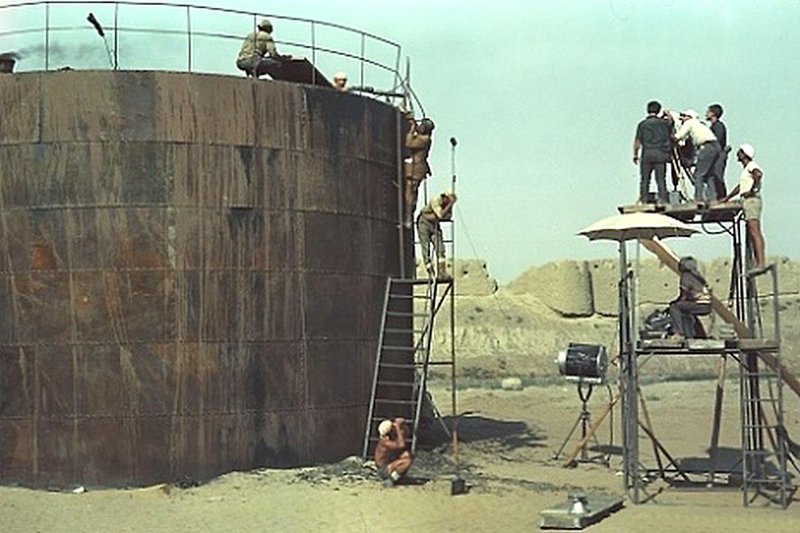
В первоначальном варианте сценария финал картины выглядел иначе.
Сухов и Абдулла пытались убить друг друга на баркасе, затем упали в воду и продолжили борьбу там. В схватке оба получили огнестрельные ранения: но Сухов был ранен легко — в плечо, а Абдулла — смертельно. Из последних сил бандит доплывал до берега, вставал на ноги и, шатаясь, шел на Сухова. Однако сил, чтобы выстрелить, у Абдуллы уже нет: он не доходил всего лишь нескольких метров до своего врага и замертво падал на землю. Кстати, падать актеру было больно — он бился лицом о землю ровно три дубля, заработав даже легкое сотрясение мозга. Получилось эффектно, но, увы, этот финал в Москве забраковали.
Между тем несладко пришлось во время съемок этого же эпизода и Анатолию Кузнецову, который тогда… едва не утонул. Дело было так. Упав с баркаса, Кузнецов попытался схватиться в воде за бревно, но так как оно было вымазано мазутом, сделать это ему не удалось. В результате обессиленный после драки на палубе актер пошел ко дну. Хорошо, что рядом оказались каскадеры, которые и помогли актеру выбраться на поверхность.

21 августа советские войска вошли в Чехословакию. Событие мирового масштаба, однако в съемочной группе «Белого солнца…» об этом пока никто не знает, хотя в последующем эти события будут иметь для картины плохие последствия. В тот день снимались следующие эпизоды: Верещагин в лодке с женой, последняя топит оружие; Верещагин закрывает в доме жену, а ключ от двери кладет под коврик; Сухов блаженствует, лежа на воде; Сухов плывет вдоль борта баркаса; Сухов в море моется мочалкой из водорослей (два последних эпизода в картину не вошли).
22 августа — все в том же Каспийске снимались эпизоды: Сухов купается в море; Петруха поднимает руки, Верещагин втаскивает его к себе в дом через окно и закрывает ставни; Сухов тянет гарем к лестнице на баке, но они упираются, не идут; Сухов лезет на бак сам и зовет женщин следовать за собой; от баркаса бежит Петруха (три последних эпизода в картину не вошли). В тот день в Ленинград уехал Луспекаев.
23 августа — съемка отменена из-за непогоды.
24 августа — Сухов разрывает лопаткой выход из подземелья, вылезает на поверхность, но, увидев бандитов у баркаса, падает сам и валит на землю женщин (эпизод вошел в картину частично); Петруха, вытирая руки ветошью, выходит из-за рубки; Петруха видит бандитов и падает за люк, ползет по палубе и прыгает за борт (эти эпизоды в картину не вошли).
25 — 27 августа — выходные дни. Группа занималась кто чем. Например, оператор с помощниками и в выходные ломали голову над тем, как усовершенствовать убогую техническую базу группы. А актеры (кроме Кузнецова, который на выходные уехал в Москву) отправились в Махачкалу развлекаться: Луспекаев, например, любил посидеть в ресторане, где тамошняя публика принимала его на «ура», а молодежь «отрывалась» на танцплощадке. В дни съемок между Годовиковым (Петруха) и Денисовой (Гюльчатай) завязался трогательный роман, поэтому их в те дни частенько можно было видеть вместе.

28 августа в 6.30 утра съемки продолжились. Снимались эпизоды: бандиты вылезают из подземелья и бегут к баку; двое бандитов пытаются открыть люк в баке, но ломают винтовку; Абдулла на коне подъезжает к баку, стучит по нему маузером (последний эпизод вошел в картину частично).
29 августа — панорама моря с лошадьми; Настя мечется по берегу и зовет мужа: «Паша!», садится на землю, бросается в воду; Сухов смотрит на гарем; в воздухе взрывается шашка, подброшенная Суховым; разговор Сухова и Рахимова (М. Дудаев), где последний уговаривает Сухова взять гарем, а тот отвечает: «Рахимов, я ведь домой иду…»; из-за бархана появляются Абдулла и его банда; банда спускается к баку, окружает его; Абдулла стучит маузером по баку, затем стреляет в него, после чего обращается к Сухову: «Выходи, Сухов! Я один тебя жду. Ты должен принять смерть достойно, как мужчина…» Последний эпизод вошел в картину частично — как Абдулла стреляет по баку. Причем снимался он курьезно. Дело в том, что конь под актером каждый раз шарахался от выстрелов и запорол несколько дублей. В конце концов кому-то пришла в голову идея — заменить коня… человеком. И вот ассистент режиссера посадил себе на плечи Кавсадзе (а весил тот 106 килограммов!) и принялся изображать из себя лошадь. Однако в картину все-таки вошел дубль с лошадью.
30 — 31 августа и 1 сентября — съемки не проводились из-за шторма на море. А 2 у группы был официальный выходной.
Режиссер Владимир Мотыль
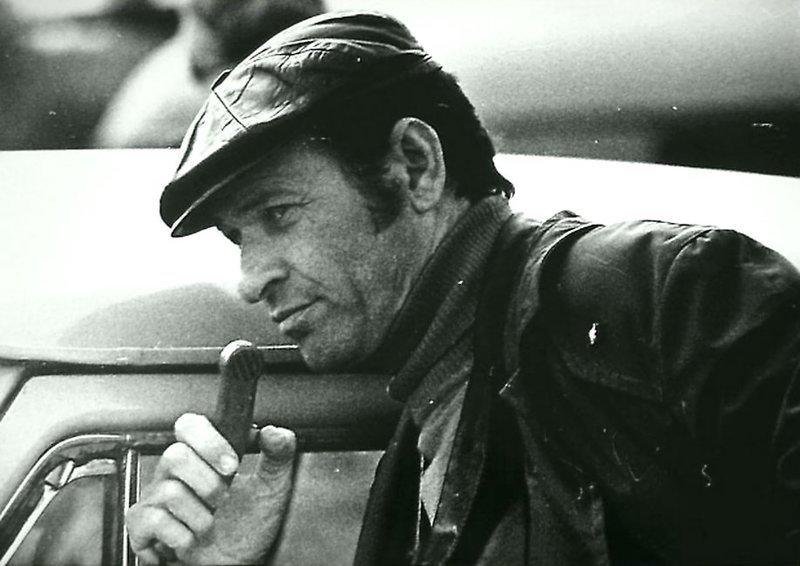
3 сентября съемки возобновились. Снимались эпизоды: Настя обреченно бредет по берегу после гибели мужа, увидев Сухова, хочет бросить в него камень, но потом передумывает (эпизод вошел в картину частично — без камня); Настя уходит; Петруха тянет за собой лошадей, привязывает их к баркасу (эпизод в картину не вошел); гарем снимает чадры (не вошел); гриф сидит на песке; пустой баркас на берегу; Абдулла едет на лошади вдоль цепочки бандитов, передающих ведра с нефтью; подпоручик на цистерне показывает измазанную нефтью руку: «Полная!»; Абдулла закуривает сигару.
4 сентября — выходной день.
5 — 6 сентября — простой из-за непогоды.
7 сентября — Сухов выходит из трюма и зовет: «Петруха!» (эпизод в картину не вошел); Сухов крутит лебедку на баркасе (не вошел); Сухов и Петруха сидят на носу баркаса и разговаривают; гарем крутит деревянный ворот, помогая Сухову и Петрухе (не вошел); Сухов кричит гарему: «Перекур!» (не вошел); Петруха заглядывает за баркас и видит курящих женщин (не вошел); Абдулла с бандой скачут к городу. В этот же день съемочную группу покинул дрессировщик с грифом, специально вызванный из Баку.
Вот как описывает происходившее на съемочной площадке в тот день корреспондентка газеты «Дагестанская правда» Л. Смирнова:
«Ясное солнечное утро. Только 6 часов, а вся съемочная группа уже готова к выезду. Актеры загримированы и одеты. В половине седьмого машины отъезжают от гостиницы «Кавказ» по направлению к Каспийску. На месте, то есть на берегу моря, уже в полной готовности аппараты главного оператора Э. Розовского. Помощники, ассистенты, художники ждут знаки, чтобы приступить к работе. Девять актрис «гарема» в полном облачении и гриме, становятся к вороту, на который надо намотать канат. Сюда же подходит А. Кузнецов. На площадку с аппаратом, установленным на рельсы, взбираются режиссер-постановщик и главный оператор. В. Мотыль, в последний раз объяснив актерам задачу, отдает «приказ»:
— Полная репетиция! Начали!
Крутится ворот, Кузнецов-Сухов «командует»:
— Раз-два! Взяли!
Он подтягивает канат и бросается на баркас, там тоже что-то крутит и откидывается в «изнеможении». Эпизод снимается четыре раза подряд. Гример Галя Яшишина перед каждым повторением должна смочить лицо Кузнецова морской водой. На экране капли воды становятся «потом». Галя натирает щеки актера песком — вот, мол, как спешит человек: некогда ни пот, ни песок смахнуть. Губы «запеклись» — на них Галочка аккуратно прилепила белый пластырь. Это безобидное техническое ухищрение. Но каково актеру по нескольку раз подряд демонстрировать перед кинокамерой полное напряжение всех физических и нравственных сил? Ведь пленка должна передать драматический момент, когда Черный Абдулла настигает своих жен, а Сухов использует последние мгновения, чтобы спасти женщин…»

8 сентября — Сухов идет от баркаса; Сухов застегивает на руке часы; Сухов наклоняется к своим вещам и обнаруживает, что его кобура пуста; подпоручик спрашивает у Сухова: «Тебя как, сразу прикончить или желаешь помучиться?», Сухов: «Лучше, конечно, помучиться…»; подпоручик скачет к Абдулле; Верещагин и Настя плывут в лодке.
9 — 10 сентября — простой из-за непогоды. Уехал Кавсадзе. И вновь приведу отрывок из заметки Л. Смирновой:
«Группа комбинированных съемок каждый день устанавливает макет в нужном ракурсе. И каждый день съемки откладываются: что-то еще не готово. Но вот, кажется, что-то получится. И вдруг солнце удаляется за тучу, неизвестно зачем выплывшую из-за Тарки-Тау. Пропал весь труд. Напрасно вставали чуть свет, напрасно гримировались, репетировали, скакали, падали, ловили убегающих коней, вымазались в песке, устали. Туча, будто приклеенная, стояла на месте, а солнце ехидно высунуло лучик: нате, мол, вам без меня ни шагу! Люди не спорят со светилом. Они ждут и репетируют кадры следующего дня.
В пять часов вечера начинаются очередные репетиции и длятся они до 9 10 часов вечера. А утром снова чуть свет машины отправятся на берег моря…»
11 — 12 сентября — выходные дни.
13 сентября — непогода.
В эти дни в группе случилось ЧП, о котором стоит рассказать подробнее. Боевые карабины киношники хранили во взводе кавалеристов, приехавших с ними на съемки. Но кое-что из реквизита находилось в ветхом помещении под охраной весьма беспечного сторожа. И вот в одну из ночей, когда сторож улегся спать, местные воры проникли в реквизиторскую и похитили оттуда часть вещей, в том числе саблю, подаренную «Ленфильму» легендарным кавалеристом Окой Городовиковым, и огромные часы фирмы «Буре», которые должны были украшать руку Сухова в ближайшие съемочные дни. После этого случая съемочный процесс остановился, кое-кто предлагал пригласить для разбирательства милицию. Однако Мотыль, имевший за плечами несколько лет пребывания в детском доме, решил поступить иначе. Выяснив через местных жителей, кто в этих краях «держит мазу», то бишь верховодит в криминальном мире, режиссер отправился к нему с визитом дружбы. Этим человеком оказался 26-летний молодой человек по имени Али. Мотыль повел себя с ним хитро: он предложил ему сняться у себя в картине в эпизоде и, когда тот с готовностью согласился, вдруг сообщил, что вот, мол, съемки можно было бы начать хоть сегодня, да какие-то сволочи украли ночью ценный реквизит. «Это не я, это Махмуд, собака!» — воскликнул в сердцах Али и тут же пообещал разобраться. Эти разборки длились всего несколько часов, и уже к утру следующего дня все украденные вещи были возвращены киношникам. А Али действительно сыграл в фильме одну из эпизодических ролей — зрители могут видеть его в двух коротеньких сценах: это он в красной рубахе и с винтовкой в руках крадется по музею во время его первого посещения Суховым и наставляет свой «винтарь» на красноармейца на берегу моря, в котором тот беспечно купался. Как мы помним, в последнем эпизоде Сухов застрелил героя, роль которого исполнял криминальный авторитет.
Али — бандит в красной рубахе и с винтовкой крадется по музею и наставляет свой «винтарь» на берегу моря на Сухова (нет в титрах)

14 сентября съемки возобновились. Снимали эпизоды: Сухов на носу челна, он приказывает гарему прыгать в воду, но те боятся, и тогда Сухов сам сбрасывает женщин в море (эти эпизоды в картину не вошли).
15 сентября — Сухов учит Рахимова: «В Старой крепости его через трубу надо было брать»; Саид на вопрос Сухова: «Ты как здесь оказался?», отвечает: «Стреляли»; гарем ест кашу из котелков; Рахимов уезжает с отрядом, оставляя гарем на попечение дремлющего Сухова: «Он хороший человек!..»; Сухов вскакивает, кричит: «Стой!»; Саид говорит ему: «Уходи! Это жены Абдуллы…»
Кстати, о гареме. Ввиду тяжелых условий работы — в те дни стояла нестерпимая жара, а актрисам из гарема приходилось «париться» под паранджой — Мотыль иногда разрешал заменять жен курбаши солдатами-кавелеристами, по комплекции похожими на женщин. Солдатики облачались в паранджу и весьма правдоподобно изображали из себя жен Абдуллы.
16 сентября — Рахимов с гаремом в пустыне (эпизод в картину вошел частично); Рахимов видит вдали идущего по пескам Сухова и стреляет вверх из пистолета; Сухов отбирает у Петрухи винтовку, пытается выстрелить из нее, но происходит осечка; бьет прикладом по земле — выстрел; Сухов приказывает Петрухе, чтобы тот отдал коня Саиду; Сухов гарему: «За мной, барышни!»; Саид слышит выстрел и останавливается.
17 сентября — бандит на баркасе ловит наган Сухова; подпоручик выглядывает из-за бака; Саид тянет лассо, наброшенное на шею бандиту; бандит падает от выстрела. В тот день в Каспийск вернулся Павел Луспекаев.
18 сентября — Саид вынимает нож из чехла и смотрит на него; Сухов надевает часы; Сухов отвечает подпоручику: «Лучше помучиться…»; подпоручик читает именную гравировку на пистолете: «Красноармейцу Сухову. Комбриг Мэ Нэ Ковун»; Ибрагим (Д. Герами) приказывает подпоручику: «Семен, скачи к Абдулле!»; Сухов бросает часы бандиту, тут же выбивает у него из рук маузер и в падении стреляет; гарем вскакивает на выстрел, но тут же опять садится; Сухов идет вдоль баркаса и спрашивает Саида: «Ты как здесь оказался?» — «Стреляли».
19 сентября — Сухов с поднятыми руками стоит у своих вещей; подпоручик вскакивает на лошадь, чтобы скакать к Абдулле; Сухов снимает с руки часы и бросает их бандиту; Ибрагим падает на песок; Саид забирает карабин у убитого бандита; стреляет в ожившего Ибрагима; Сухов оборачивается на выстрел; Верещагин идет по двору, затем подходит к двери и закрывает ее на ключ.
20 сентября — весь день шла подготовка к завтрашней съемке, вечером приехал Кавсадзе.
21 сентября — Сухов открывает крышку ящика и заливает тлеющие динамитные шашки водой из чайника; Абдулла, Саид и банда выезжают на бархан; банда спускается с бархана; Сухов выбивает маузер у бандита; поручик отдает Абдулле шапку убитого Ибрагима; Абдулла смотрит на Саида, говорит: «Пока я не возьму их, ты останешься у нас», после чего его люди разоружают Саида.
22 сентября начали снимать драку на баркасе. Ту самую, которую Мотыль предлагал Луспекаеву частично отснять в павильоне, но актер отказался, пообещав, что справится с этим на натуре. И все же без дублеров не обошлись, они заменяли Луспекаева в нескольких эпизодах. В частности, в тот день снимали две такие сцены: когда бандит закидывает веревку за голову Верещагина, которого заменял каскадер (эпизод в окончательный вариант фильма не вошел), когда Верещагин сбрасывает ногами за борт двух бандитов. Кроме этого, снимались и другие эпизоды: бандит с наганом у рубки; бандит хватает Верещагина за горло, тот роняет маузер (эпизод в картину не вошел); Верещагин бросает через голову бандита в море, приговаривая: «Помойтесь, ребята»; Абдулла бросается с кубрика в воду, стреляя в воздухе в Сухова (эпизод в картину не вошел).
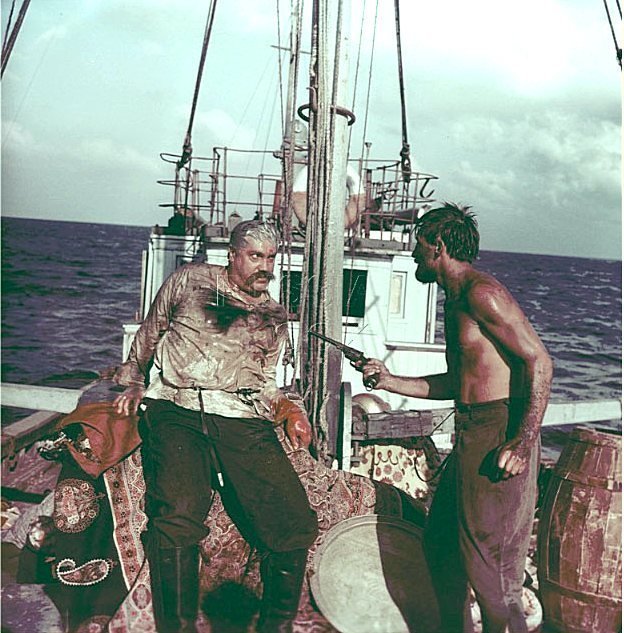
23 сентября — съемки не проводились из-за шторма на море. В этот же день в группе случилось страшное ЧП: из-за неосторожности погиб один из кавалеристов, прикомандированных к киношникам — сержант Жакупов. К месту трагедии вызывают мать погибшего. Однако, несмотря на это, съемки продолжаются.
24 сентября — Верещагин отнимает у бандита маузер, тот сопротивляется, но таможенник бьет его по голове, приговаривая: «Отдай!..»; Верещагин отходит к рубке; бандит забирает пистолет у убитого товарища, но тут же падает от выстрела Верещагина (эпизод в картину не вошел); Верещагин Абдулле: «Абдулла, не много ли товара взял? И все поди без пошлины?»; тогда же Верещагин произносит фразу, которой впоследствии суждено будет стать крылатой: «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Вечером этого же дня в Тбилиси уезжает Кавсадзе.
25 сентября — простой из-за шторма на море.
26 сентября — продолжаются съемки эпизодов драки на баркасе: в Верещагина летит цепь и пригвождает его к стене (эпизод в картину не вошел); бандит на крыше рубки (не вошел); Верещагин стреляет из-за мачты, прячется за кубрик (не вошел); бандит перелезает через борт и прижимается к рубке; бандит падает с рубки (не вошел); крадутся два бандита; бандит с ножом в зубах вылез из-за борта, кидает нож в таможенника, но промахивается (не вошел); Верещагин подбирает маузер, бросает бочку на бандита. В этот же день, но уже в Сулаке снимали эпизод из финала картины — прощание Сухова с отрядом Рахимова, гаремом и Саидом.
27 сентября — выходной день.
28 — 29 сентября — простой из-за непогоды.
30 сентября (Сулак) — Сухов прощается с Рахимовым; Саид прощается с Рахимовым (эпизод в картину не вошел); Абдулла и Саид — разговор в пути. Абдулла: «Мой отец перед смертью сказал: «Абдулла, я прожил жизнь бедняком, и я хочу, чтобы тебе бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня. Я долго ждал. Но потом бог сказал: «Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный». Саид: «Мой отец ничего не сказал — Джавдет убил его в спину». Абдулла: «Твой отец был мудрый человек, но кто на этой земле знает, что есть добро и зло. Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется… в нужное время».

В тот же день съемочную группу покинули Кавсадзе и Мишулин. Последний, кстати, вынужден сниматься в фильме чуть ли не полулегально. Дело в том, что главреж Театра сатиры запретил своим ведущим актерам в начале сезона сниматься в кино, а Мишулин этот запрет нарушил. Правду от Плучека скрывать было бы легче, если бы не одно обстоятельство: для роли Саида Мишулину пришлось обриться наголо. Но киношные гримеры нашли выход и сделали актеру парик, которым он прикрывал свою бритую голову. Но разоблачение все равно произошло, причем актер сам этому поспособствовал. Однажды он нос к носу столкнулся у входа в театр с Плучеком и, поздоровавшись, снял с головы кепку… вместе с париком.
— Это что такое? — округлил глаза Плучек. — Значит, все-таки снимаетесь, Спартак Васильевич?
Тому не оставалось ничего иного, как честно во всем признаться.
— И у кого же, если не секрет?
— У Мотыля, — ответил Мишулин.
И тут случилось неожиданное: Плучек внезапно расплылся в довольной улыбке и, похлопав актера по плечу, сказал: «У него можно».
Как оказалось, последний фильм Мотыля «Женя, Женечка и «катюша» Плучеку очень понравился и он ничего не имел против того, чтобы актеры его театра играли в картинах этого режиссера.
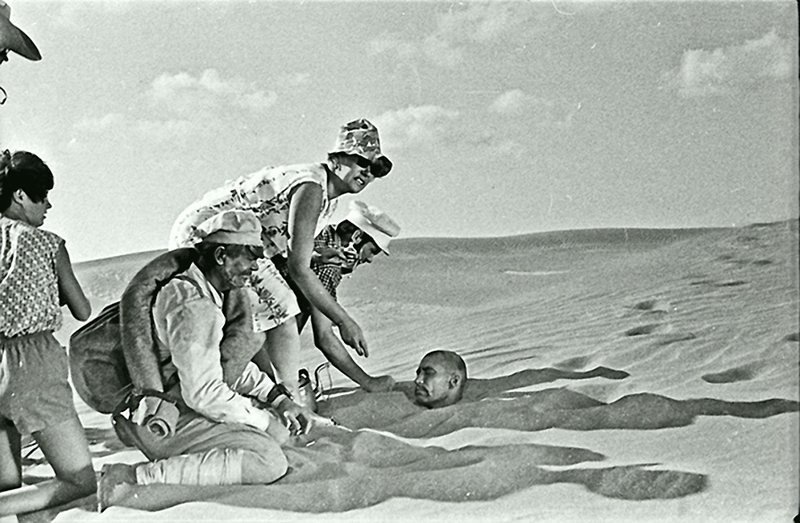
Но вернемся в Дагестан. 1 октября под Каспийском снимались следующие эпизоды: по палубе баркаса крадется бандит; бандит с маузером выходит из-за рубки; бандит падает в воду с ведром; Верещагин лежит на палубе; бандит кричит: «Абдулла, таможня дает добро!», но Верещагин бьет его ногой в пах, выхватывает пистолет и расстреливает бандитов.
2 октября — простой из-за непогоды.
3 — 4 октября — выходные дни.
5 — 6 октября — непогода.
Последние две недели, наверное, одни из самых сложных в работе над картиной. Об этом наглядно говорит телеграмма Мотыля в адрес руководства ЭТК, которую он отправил 3 октября. В ней режиссер сообщает, что экспедиция по плану должна была быть закончена 20 сентября, но из-за большого брака пленки (2335 м) и плохой работы режиссерского состава в отведенный срок уложиться не удалось. С 22 по 30 сентября снято всего 99 полезных метров, простой из-за непогоды 4 дня, один выходной. Группа испытывает трудности с актерами, сложности со съемками на воде, с животными (имеются в виду лошади). Большая разбросанность объектов (группе приходится курсировать между Каспийском и Сулаком). Мотыль открытым текстом пишет, что положение катастрофическое и просит прибыть к месту съемок директора ЭТК Познера. Стоит отметить, что затраты к этому времени достигли уже 311 тысяч рублей, из 450 тысяч отведенных на весь съемочный процесс.
Вдобавок ко всем неприятностям в те же дни (начало октября) происходит ЧП с одним из актеров — Павлом Луспекаевым, который, как мы помним, был большим любителем посещать рестораны. И вот однажды там возникла крупная драка между местными посетителями. Луспекаев же по доброте своей бросился разнимать дерущихся, что крайне не понравилось одной из сторон. В итоге один из горячих дагестанских парней выхватил из-за пояса кинжал и ударил им Луспекаева в лицо. К счастью, удар пришелся аккурат в левую бровь актера если бы лезвие скользнуло чуть ниже, то Луспекаев вполне мог бы остаться без глаза.
Спартак Мишулин и каскадер и режиссер-постановщик трюковых сцен Александр Массарский — дублер в сцене драки на баркасе П. Луспекаева

7 октября съемки фильма возобновились, однако их пришлось тут же остановить, поскольку замазанная гримерами раненная бровь Луспекаева постоянно кровоточила. И тогда Мотыль придумал такой ход: по приказу Абдуллы один из бандитов («Аристарх, договорись с таможней») стрелял в стекло рубки (этот эпизод снимут позже — в туркменской экспедиции), и осколок рассекал Верещагину левую бровь. Так кровоточащая рана на лице актера стала иметь свое правдоподобное объяснение. В тот день сняли еще ряд эпизодов: Верещагин глядит на берег, где мечется его жена (эпизод в картину не вошел); Верещагин заходит в рубку; стреляет за борт в бандита (не вошел); уползает к борту (не вошел); затягивает зубами повязку на руке (не вошел); бросается в сторону, а на рубке остаются следы от бандитских выстрелов (не вошел); крутит лебедку, поднимая якорь; говорит: «Сейчас подойдем поближе, Федор Иванович».
8 — 9 октября — съемки отложены из-за непогоды. Экспедицию покинул Павел Луспекаев.
10 октября съемки в Каспийске возобновились. Снимали эпизоды: гарем жарит еду в отряде Рахимова (эпизод в картину не вошел); Сухов прощается с гаремом: «До свидания, барышни»; Рахимов кричит Сухову: «Спасибо!», тот: «Не за что»; бандиты грузят награбленное на баркас; Саид разоружает бандита: «Не говори никому, не надо»; подпоручик хочет бросить динамитную шашку, но его руку захватывает аркан, брошенный Саидом (эпизод в картину не вошел); Сухов выныривает из воды; гарем бросается к мертвому Абдулле, умершему на берегу после схватки с Суховым в море, и начинает причитать (не вошел).
11 октября — Саид возвращает себе винтовку, пистолет и уходит из банды; Саид кричит Абдулле: «Это говорю я — Саид!» и бросает в цистерну с нефтью зажженный аркан; горит цистерна, паника среди бандитов; Саид ползет по песку от раненой лошади (эпизод в картину не вошел); Сухов у бака стреляет из музейных пистолетов (в картину не вошел); Саид лежит около бака, закрывает глаза (не вошел). Вечером того же дня Спартак Мишулин уехал из съемочной группы, а ему на смену приехал Кавсадзе.
12 октября — Сухов ползет с пулеметом к краю бака (эпизод в картину не вошел); бандиты заливают нефть в канаву, вырытую вокруг бака; горит цистерна, с нее с криком падает подпоручик; Сухов с бака стреляет из пулемета по бандитам; Сухов плывет к баркасу; Настя обреченно идет по берегу мимо лошадей.
13 — 14 октября — съемки вновь сорваны из-за непогоды. Уехал Кавсадзе.
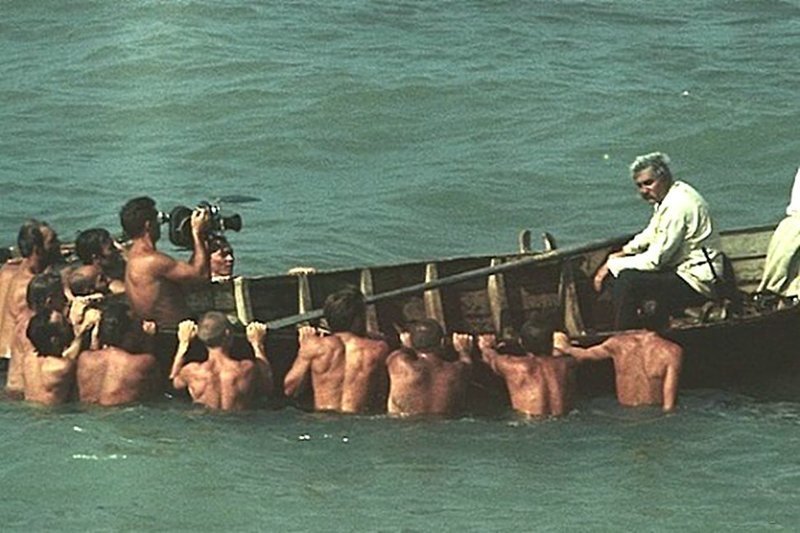
15 октября — Сухов прыгает с бака на землю и скатывается в яму (эпизод в картину не вошел); сидя в яме, стреляет из музейных пистолетов (не вошел); Верещагин из лодки забирается на баркас; звучит пулеметная очередь, и у убитого бандита из рук выпадает факел — нефтяная лужа загорается (не вошел); верблюды идут по пустыне, лежат на песке (не вошел).
16 октября — Сухов подходит к старикам; Сухов идет к морю; Абдулла обращается к Саиду: «Зачем ты убил моих людей, Саид? Я послал их сказать, чтобы ты не искал Джавдета в Сухом ручье — его там нет. Возвращайся в Педжент. Твой отец был другом моего отца. Дорога легче, когда встретится добрый попутчик»; крупные планы банды; лодка с бандитами плывет от баркаса к берегу.
17 октября — баркас на воде; берег моря.
18 октября — банда Абдуллы едет по пустыне; взрыв баркаса.
19 — 20 октября — непогода.
21 — 22 октября — выходные дни. Уехал Кавсадзе.
Макет баркаса, который будет взорван в фильме

23 — 25 октября — съемки не проводились из-за плохой погоды.
26 октября — группа пакует вещи и собирается в обратный путь. Переезд продолжается до 31 октября. Так закончилась дагестанская экспедиция, которая длилась почти три месяца. Как мы помним, по плану эти съемки должны были уложиться до 20 сентября, но из-за непогоды и неразберихи, царившей в съемочной группе, экспедицию не удалось закончить в срок. Один брак пленки составил аж 2335 метров. Эта экспедиция съела 170 тысяч рублей.
Между тем у этих трудностей были и объективные причины. Начались они еще со времен режиссерской разработки, когда срок окончания работы над режиссерским сценарием продлевался дважды — он был закончен только 30 мая вместо 1 марта. Как следствие — запоздалый выезд на съемку натуры к морю начало августа.
Режиссерская группа подобралась слабая. Вначале было два вторых режиссера — Дакиев с «Ленфильма» и Курбатов, имевший за плечами всего лишь режиссерские курсы. Курбатов показал свою полную беспомощность, договор с ним был расторгнут еще до начала съемок — 1 июля. Затем дошла очередь и до Дакиева, а потом и до ассистента режиссера Ясана. В итоге на съемочной площадке из режиссерского состава работали только Мотыль и помощник режиссера Курсеитова.
Николай Конюшев был занят тем, что все время гонялся по всей стране за артистами, пытаясь вовремя обеспечить их присутствие на съемочной площадке. Например, в разгар дагестанской экспедиции взяла и уехала одна из «жен» Абдуллы — Ахтамова.
Девушка наотрез отказывалась возвращаться в зыбучие пески, под палящее солнце. Конюшеву пришлось приложить максимум старания и терпения, чтобы уговорить ее вновь напялить на себя паранджу.
За то время пока группа отсутствовала, на студии произошли серьезные изменения. Напуганные чехословацкими событиями, советские власти принялись лихорадочно «закручивать гайки», чтобы, не дай бог, в Советском Союзе повторилось подобное. В итоге Экспериментальная творческая киностудия приказом Госкино была лишена самостоятельности, хотя и сохранила некоторые привилегии по части поощрений работников в зависимости от показателей проката. ЭТК стала отныне Экспериментальным творческим объединением (ЭТО) при «Мосфильме». По этому случаю было решено произвести зачистку сценарного портфеля. Мало того — все фильмы, которые на тот момент находились в производстве студии, подлежали немедленной ревизии.
11 ноября худсовет Экспериментальной студии отсмотрел отснятый материал фильма «Белое солнце пустыни». Впечатление от просмотра у присутствующих было разным: одним он понравился, другим нет.
Л. Белова: «Опасений за картину нет. Вестерн получится, зрители ходить на него будут. Верещагин хорош. А вот Сухов-Кузнецов не нравится. На героя он не тянет. Может быть, ему стоит играть линию Иванушки-дурачка?.. Типажно Петруха хорош. Но актерски, когда плачет, плох…»
В. Ежов: «Это не вестерн, но это и не военно-приключенческий фильм. Это азиатская, где-то суровая, где-то условная картина. Она будет оригинальна, необычна. Весь круг материала сложился иначе, но очень интересно. Жанрово это по-новому. Все равно у нас не снять вестерн, наши герои не так ходят, не так стреляют. Получается русско-киплинговская интонация. Может быть, ее и надо вытягивать в картине…
С Суховым и Абдуллой нужно придумать эпизод драки на суше, в воде не получился. Должна быть вообще «игра мужчин». Может быть, даже и не давать смерть Абдуллы. Поверженный враг — не враг…»
Л. Гуревич: «Картина делается не по канонам. Пошла интересно. Не вестерн, но интересная картина. Я был на первом просмотре материала. По сравнению с тем, этот материал лучше. Лучше, гибче становится Кузнецов, появляется юмор…»
В. Дьяченко: «Материал оказался неожиданным. Это не вестерн. Гармонии вещи я еще не ощущаю. Ритм замедленный. Сухов неприятен, неприятна небритая физиономия…»
Л. Шмуглякова (редактор фильма): «В Сухове нет юмора и обаяния. Сейчас он играет лучше, чем в начале съемок, но этого недостаточно. Кузнецов играет часто очень реалистически, не в жанре, в нем нет суперменной игры, изящества. Это очень вредит картине. Плохо изобразительно. Тускло, невыразительно, не эмоционально. Плохо, статично сняты куски драки….»
В. Мотыль: «При всем сопротивлении чистоте жанра я стремлюсь снять именно вестерн. Но не путем подражания. Мы идем другим путем, но жанр в конечном итоге останется, ради этого мы и затевали всю эту историю…»
В своем заключении участники совещания потребовали от режиссера произвести в материале следующие поправки: переснять финал (перенести разборку Сухова и Абдуллы с моря на сушу), убрать трагический финал сумасшествие жены Верещагина, не поджигать бак, в котором заперлись Сухов и гарем. В заключение также отмечалось: «Оставляет желать лучшего изобразительное решение фильма. Во многих эпизодах, особенно эпизодах боя, камера остается статичной, равнодушной, не эмоциональной. В фильмах такого жанра это может нанести непоправимый урон».
Заключение комиссии о внесении изменений в отснятый материал
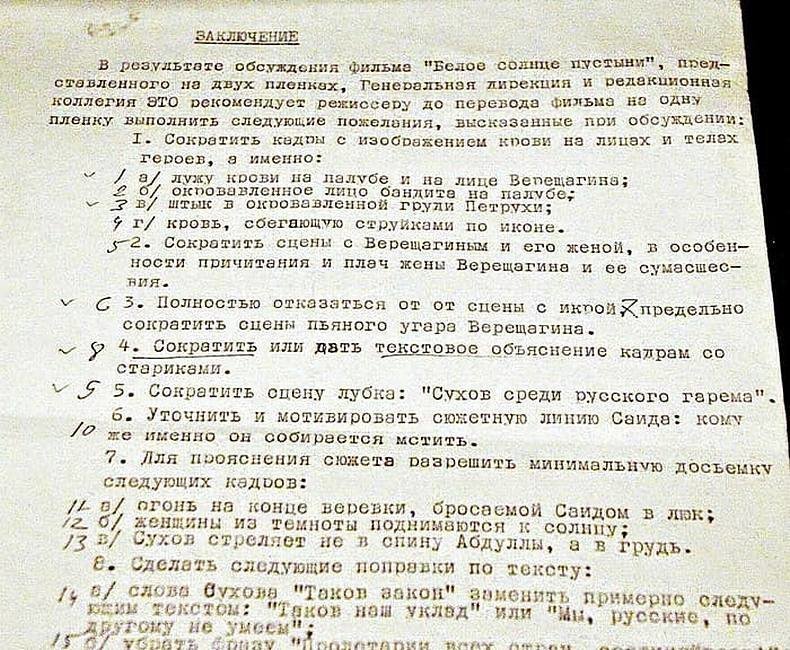
Кстати, о боях. Во время дагестанской экспедиции Мотыль отснял два крупных боя — на море и на баркасе, но не снял ни одного конного трюка, несмотря на то, что группа каскадеров-конников во главе с Павлом Тимофеевым находилась, что называется, под рукой и была готова приступить к работе по первому же сигналу. Впоследствии это обстоятельство недоброжелатели режиссера используют в своих нападках против него: дескать, был три месяца в экспедиции, но необходимого материала так и не отснял. Но вернемся в ноябрь 68-го.
На следующий день после заседания худсовета сам художественный руководитель ЭТО Григорий Чухрай пишет на имя Мотыля письмо, в котором выражает свое крайнее беспокойство в связи с ситуацией, которая складывается вокруг картины. Цитирую:
«Очень огорчает то, что в материале, который мы просмотрели, Сухов абсолютно бесхарактерен. В нем отсутствуют качества, которые могли бы сделать Вашу картину оригинальной, отличной от известных западных образцов, чувство мужицкого юмора, мужицкая смекалка, простота и полное отсутствие позы, а главное, действенность, человечность, красота и другие качества, присущие данному герою.
Зритель в первую очередь должен любить Сухова. А за что его любить? В Вашем материале, к сожалению, нет даже намека на это. И это вызывает у меня самое большое опасение. Тем более и в других героях очень мало необходимой в данном жанре характерности»

Решением высокого руководства упомянутые сцены из фильма были изъяты. Кроме этого, сократили драку Верещагина на баркасе и две «обнаженки»: с Катериной Матвеевной, переходящей с задранной юбкой через ручей, и женами Абдуллы, которые разделись во время своего заточения в баке.
А работа над фильмом тем временем продолжалась. 14 ноября в тонстудии «Ленфильма» Павел Луспекаев записал песню Верещагина «Ваше благородие…» Запись длилась с 16 до 20 часов.
Голос у Луспекаева проникновенный, но осипший. Павел Борисович вечер накануне записи песни провел где-то с друзьями, попили, попели. И посадил голос! Расстроенный, ехал он на студию. Встретил Абдуллу — Кахи Кавсадзе.
— Кахи, какой я дурак! — прохрипел он. — Что теперь будет?!
Кавсадзе успокоил:
— А что, Паша, по-твоему, Верещагин должен петь бельканто?!
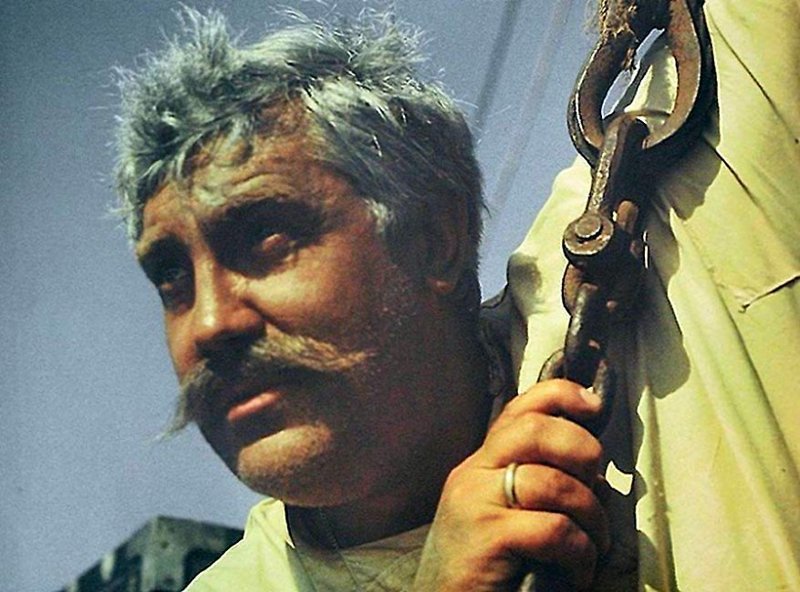
15 ноября начались павильонные съемки. В тот день в 6-м павильоне филиала «Ленфильма» Сосновая поляна снимались следующие эпизоды в декорации «Дом Верещагина»: первая встреча Верещагина и Петрухи («Ты в чей дом забрался? Отвечай!» — «Не знаю». «Ты что, не слыхал про Верещагина? Дожил! Было время в этих краях каждая собака меня знала. Вот так держал! А сейчас забыли…»); Верещагин и Петруха выпивают, Верещагин поет песню; Петруха представляет своего командира: «Это же товарищ Сухов!»
16 ноября — в пиалу Верещагина попадает камешек, брошенный с улицы Суховым; Верещагин берет динамитную шашку и поджигает от лампадки фитиль, чтобы бросить ее Сухову.
Вспоминает Н. Годовиков: «В пиалах у нас была газировка. Еще Станиславский говорил: никогда нетрезвый актер не сыграет лучше, чем трезвый. На съемках мы были трезвые, а после съемок, конечно, позволяли себе. Мы снимали тогда в Сосновой поляне, и там был магазинчик — небольшой, деревянный, как сейчас помню. Мы часто к нему ездили на «козлике» втроем я, Пал Борисыч и Кузнецов.
Скидывались, и «старшие товарищи» напутствовали Годовикова как самого молодого:
— Ну, Коля, вперед!
— Как всегда?
— Как всегда!
Это значило: девять «маленьких» водки «Московская» по рубль сорок девять. Почему девять? Норма, определенная опытным путем.
Иной раз в компанию напрашивался режиссер:
— Ребята, я с вами.
Луспекаев отшучивался:
— Владимир Яковлевич, у вас же «Волга», зачем вам на «козле»-то?..
Видимо, именно эти послесъемочные посиделки выбивали актеров из творческой колеи, о чем есть запись в съемочном журнале. Там писали, что «выработка актерами — низкая, за смену снимается только 20 полезных метров пленки». Такой низкой выработки не было даже в дагестанской экспедиции, а ведь там условия работы были куда сложнее, чем в павильоне. Но съемки тем не менее продолжались.
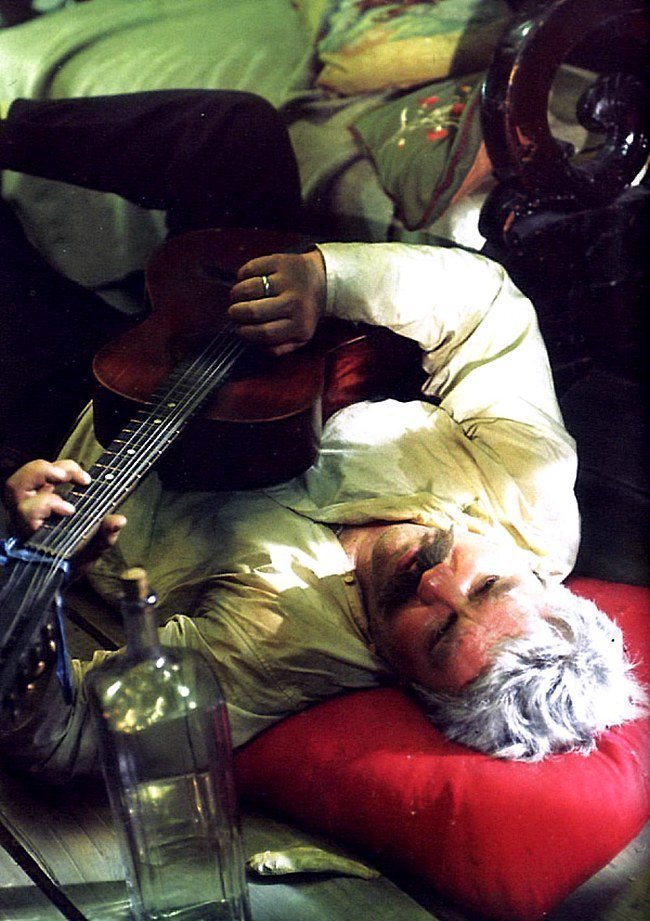
17 ноября — съемка отложена.
18 ноября — Петруха смотрит на входящего в дом Верещагина Сухова; Сухов просит Верещагина дать им пулемет. Тот спрашивает: «Абдуллу ждешь?» «Жду». Верещагин: «Вот что, Сухов. Была у меня таможня, были контрабандисты. Сейчас таможни нет, контрабандистов нет. В общем, у меня с Абдуллой мир. Мне ведь все едино, что белые, что красные. Что Абдулла, что ты. Вот ежели бы я с тобой пошел, тогда другое дело». Сухов: «Ну, в чем же дело — пошли». Петруха: «Пшли!»
19 ноября — Сухов осматривает комнату, пьет водку; входит жена Верещагина Настя, здоровается с гостями; Верещагин встает: «Ребята…»
20 ноября — Верещагин выходит с пулеметом к гостям: «Вот что, ребята, пулемета я вам не дам»; Сухов встает: «Понимаем…»; подпоручик заходит в дом Верещагина, кричит на него: «Встать, когда с тобой разговаривает подпоручик!»
21 ноября — съемку отменили из-за Годовикова: у него на лице синяки, полученные им накануне в какой-то потасовке.
22 ноября — съемку опять отменили, но на этот раз из-за актера Кавсадзе, который не смог вовремя прилететь из Тбилиси — перенесли рейс самолета.
23 — 24 ноября — выходные дни.

25 ноября — продолжаются съемки в декорации «Дом Верещагина»: Верещагин предлагает Петрухе выпить, но тот, с трудом стоя на ногах, отвечает: «Я не пью», на что таможенник заявляет: «Правильно, я вот тоже сейчас это допью — и брошу»; Верещагин и Настя в спальне, жена отчитывает мужа: «Ты какие клятвы давал? Сдурел на старости лет?! Мало тебе, окаянный, что ты молодость мою погубил, теперь и вовсе вдовой хочешь оставить!»; Верещагин встает с кровати, но Настя бросается ему в ноги: «Паша! Пашенька, не ходи, погубят они тебя…»
26 ноября — Верещагин идет за Настей, Петруха пытается пристроиться следом, но Сухов его останавливает: «Назад…»; Сухов и Петруха, уходя из дома таможенника, сталкиваются в коридоре с Настасьей, та удивленно вопрошает: «Куда же вы, а закусить?», на что Сухов отвечает: «В другой раз, хозяюшка» (в картину не вошел); Настя ведет мужа от окна, куда он смотрел, наблюдая за уходом непрошеных гостей, к столу, где кормит его икрой с ложки, а тот сопротивляется: «Не могу я ее есть, проклятую! Хоть бы хлеба купила…»
О том, как снимали эпизод «с икрой», рассказывает Н. Годовиков: «Икры было две килограммовые банки. Это называется исходящий реквизит. В сцене была задействована одна банка. Сделали в тазу фанерное дно — выше настоящего, намазали на него икру — получилось на вид очень много. Павел Борисович Луспекаев пару раз снялся, потом говорит режиссеру: «Прошу актерский дубль». А мне шепчет, мол, беги, Коляня, в буфет за ложкой. Знал, что я тогда на мели сидел, впроголодь снимался. Ну, я ложку принес, стою в сторонке. Сняли сцену, режиссер говорит: «Годится!», а Луспекаев мне моргает: «Налетай!» Мы с ним в две ложки — пока другие искали, чем бы зацепить икорочку — и усидели первую банку. А вторую уже с реквизиторшей. Под водочку…»
Между тем у Мотыля есть другая версия «икорных» событий. По его словам, вторая банка икры хранилась в холодильнике под неусыпным контролем администратора. Есть ее никому не разрешалось до тех пор, пока из проявочного цеха не поступила информация о том, как получился отснятый эпизод. Если бы проявщики обнаружили брак, то сцену пришлось бы заново переснимать, а значит, и дефицитная икра могла вновь понадобиться. Но ответ ждали так долго, что икра не выдержала и протухла. К счастью, и брака на пленке не обнаружили, поэтому надобность в икре больше не возникла.

27 ноября — съемка отложена по вине Кавсадзе, который все никак не может доехать из Тбилиси до Ленинграда.
28 ноября — Сухов сидит за столом и пьет водку; Верещагин к Сухову: «На дворе павлинов видел?.. Уж больно мне твой Петруха по душе»; пересъемка плана «фотографии Верещагина и Насти».
29 ноября наконец-то на съемочной площадке объявился Кавсадзе. В тот день снимали эпизоды: Абдулла сидит в зиндане и смотрит сквозь решетку; Абдулла заманивает к себе Гюльчатай и душит ее; Верещагин лежит на полу и поет, потом наливает себе самогон в стакан (эпизод вошел в картину частично — без самогона).
13 декабря возобновляются павильонные съемки. Правда, из-за опоздания пиротехника начать их удалось только в 16 часов. Снимались эпизоды в «общежитии», которое раскинуло свои владения в 7-м павильоне: Сухов застает Абдуллу врасплох в тот момент, когда тот собирается расстрелять своих жен; Сухов спрыгивает с окна и отвязывает веревку от пулемета.
14 — 15 декабря — выходные дни.
16 декабря — Абдулла оборачивается на возглас Сухова: «Руки вверх!»; Сухов, сидя в карете, обращается к басмачу: «Абдулла, руки-то опусти… Вели своим нукерам, чтобы убирались со двора. Я отпущу тебя, как только они уедут из Педжента»; Абдулла зовет Махмуда и приказывает банде ехать к морю: «Грузите баркас. Я остаюсь погостить…»
17 декабря — съемку отменили из-за отсутствия на съемочной площадке новой актрисы, утвержденной на роль Джамили (Дашевская вместо Умпелевой).
18 декабря — Сухов садится на пороге общежития и обращается к гарему: «Уходить надо, барышни. В пески» (эпизод в картину не вошел); жены Абдуллы внимательно слушают Сухова (не вошел); хранитель музея Лебедев (в этой роли тогда снимался другой актер, которого позже заменили на того, кого мы увидим на экране — Николая Бадьева) сидит у стены; Сухов сидит на подоконнике и командует Абдулле: «Брось оружие! Кинжал! И пять шагов вперед»; крупные планы гарема (Ткач, Сливинская, Смирнова, Деглав, Лименес, Ахтамова, Денисова).
19 декабря — Абдулла пьет воду из кувшина, грозно смотрит на гарем (не вошел); жены бросаются в ноги своему господину: «Мы верны тебе…»; Абдулла одной из жен: «Джамиля, почему ты не умерла?..»; Абдулла взводит курок своего маузера, гарем в ужасе разбегается; Абдулла по приказу Сухова делает пять шагов вперед; Сухов ногой отбрасывает кинжал.
20 декабря — гарем готовится ко сну, кто-то из жен говорит: «Мяса хочу…» (не вошел); жены подходят к Гюльчатай, начинают ее раздевать (не вошел); гаремные жены обсуждают, почему их новый господин не приходит к ним: «Наш муж забыл про нас… А может быть, Гюльчатай его плохо ласкает?..».
Татьяна Федотова в роли Гюльчатай

21 — 23 декабря — готовилась к съемкам декорация «Старая крепость». Съемки в ней начались 24 декабря. Снимали эпизоды: Абдулла лежит с Джамилей, и та кормит его виноградом; Абдулла спит с Джамилей, слышит выстрелы, вскакивает; один из его нукеров сообщает: «Это отряд Рахимова! Они угнали наших коней!»; Рахимов стреляет в Абдуллу, прячется от ответного выстрела; Абдулла стреляет в Рахимова; падает убитый бандит (ни один из этих эпизодов в фильм не вошел).
Вспоминает К. Кавсадзе: «В фильме был эпизод, который затем бдительная цензура приказала вырезать, назвав его «порнографией». Эпизод такой. В постели лежит голый Абдулла, прикрытый немного простыней, к нему прильнула одна из его жен, также обнаженная, и кормит виноградом. Этим эпизодом мы хотели показать, что у Абдуллы была своя жизнь, в которую ворвался Сухов и разрушил ее.
Мне было стыдно немножко сниматься в этой сцене, неловко, и потому попросил, чтобы никто не глазел. Режиссер Мотыль всех посторонних выгнал из павильона и приказал никого не пускать. Начали снимать, и тут открывается дверь, и входит моя горячо любимая жена — она только что прилетела. Мотыль заорал: «Я же сказал: никого не пускать!!!» Она повернулась и молча вышла. Я вскочил, сбросив с себя грудастую девицу: «Владимир Яковлевич, это же моя жена Белла!» Мотыль схватился за голову…»
25 декабря — Абдулла, услышав выстрелы, спешно одевается; Абдулла обращается к своим женам: «Я не оставлю вас этим собакам»; Абдулла тушит ногой светильник; не обнаружив Абдуллу, Рахимов бросается в погоню (эти эпизоды постигнет та же участь, что и снятые днем ранее — они в картину не войдут).
26 декабря — пересъемка эпизода с гаремом, где жены Абдуллы возмущаются поведением своего нового господина: «А может, Гюльчатай его плохо ласкает?»
27 декабря — одна из жен Абдуллы — Зарина — падает, испугавшись выстрела; гарем прижимается к стене; гарем спит; Гюльчатай подходит к спящему Петрухе, всматривается в его лицо, но едва он шевельнулся, как девушка убегает прочь; Сухов идет с граммофоном в руках; Сухов обращается к Гюльчатай: «Назначаю тебя старшей по общежитию…» (эти эпизоды в картину не вошли).
28 — 29 декабря — выходные дни.

30 декабря — съемка отменена из-за Годовикова, который явился на съемочную площадку в «неснимаемом» виде — с ожогами на лице. В тот же день уехали Кавсадзе и Кузнецов.
31 декабря — съемка отменена, прошла перезапись рекламного ролика для ТВ (будет показан в «Кинопанораме»).
2 января 1969 года — съемка отменена, поскольку ожоги на лице Годовикова все еще не зажили.
3 января — съемка отменена, но теперь из-за болезни Мотыля.
6 января — в павильоне № 3 снимался эпизод: Гюльчатай закрывает лицо от Петрухи (эпизод в картину не вошел); в павильоне № 1 — Сухов и Петруха следят за горящим шнуром на баркасе, Петруха считает до 42-х:
— «Теперь пускай плывут на катере. За кардон собрались: заведут мотор и через сорок два ка-а-ак…» Сухов:
— «Это точно».

КАК ХОТЕЛИ ПОГАСИТЬ «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ…»
На следующий день и в четыре последующих месяца съемок не было, поскольку над фильмом нависла угроза закрытия. Дело в том, что худсовет объединения, просмотрев отснятый в павильоне материал, остался недоволен увиденным. 15 января художественный руководитель ЭТО Г. Чухрай и исполняющий обязанности директора объединения Ю. Шахпаронов отправили Мотылю письмо, в котором говорилось:
«Обращаем Ваше внимание на то, что по Вашей вине по фильму «Белое солнце пустыни» идет большой перерасход сметных ассигнований. В результате Вашей непрофессиональной работы, во время трехмесячной экспедиции к морю снят не весь сценарный материал, связанный с морем, и в то же время отснято огромное количество несценарного материала, что, естественно, привело к перерасходу. Вы поставили студию в тяжелое финансовое положение и не считаетесь с тем, что студия — организация, не имеющая возможности и источников для дополнительных средств и покрытия непроизводительных расходов по Вашей картине.
Израсходовано на 1 января 1969 года более 350 тысяч рублей. Затраты на монтажно-тонировочный период составляют 60 — 70 тысяч рублей. Каким образом на оставшиеся 30 — 40 тысяч рублей планируется осуществить две далекие и сложные экспедиции в Хиву и в Красноводск?
Группе следует тщательно продумать создавшиеся условия и предложить не фантастический план работ, а исходить из реальных возможностей, утвержденной сметы и оставшихся средств. В противном случае мы закончить картину не сможем…
Просим к 27 января представить сложенный материал, календарный план на окончание работ по фильму и соображения по затратам».
К указанной дате Мотыль предоставил руководству ЭТО свои соображения, после чего его отправили монтировать отснятый материал и дорабатывать сценарий — изменять финал. 4 февраля в сценарно-редакционной коллегии ЭТО состоялось обсуждение отснятого материала. Заглянем в его стенограмму.
Л. Гуревич: «Впечатление от материала несколько сумбурное. Павильонные сцены добавили хороший материал Луспекаеву. В его сценах есть юмор, разрядка. Сейчас воспринимать материал тяжело, много пальбы, много взаимоисключающих сцен, много непонятного. Перебор в сцене на баркасе. Получается, что Луспекаев воюет только за казну…»
В. Дьяченко: «В материале ощущение чего-то недосказанного, недоигранного. Бой на баркасе вызывает неудовольствие. Похож на пародийный фильм о пиратах. Хорош Луспекаев, Сухов им подавлен…»
М. Качалова: «В материале есть явные удачи и явные неудачи. Очень хорош Луспекаев. Хорош Абдулла. Великолепно снято. Хороши жены. Приятен Петруха, фактурно приятен. А вот Кузнецов плох. Не тот герой, неприятен, необаятелен.
Сцены побоища сняты фальшиво, они водевильны. От баркаса нужно оставить треть. География побоища непонятна. Нужно оставить минимум боев. И сократить не кусочками, а большими кусками. Режиссер силен в лирических, теплых сценах, их нужно оставить и снимать еще. В сценах боев и режиссер, и оператор слабы…»
Э. Розовский (оператор фильма): «Бои плохо сняты, потому что не написаны. Может быть, нужно сделать две серии?..».
В. Мотыль: «С героем действительно положение трудное. Нужно спасать героя. Возможности для этого есть. Впереди у него выигрышные сцены. И по части юмора, и по части военных сцен — они еще будут сниматься. Нужна экспедиция и в Хиву, и к морю, в Красноводск. Вестерн снимать очень трудно, а льгот, как, например, на комедию, нет. Но этот жанр окупающийся, он стоит затрат…»
Около двух часов длилось это заседание, после чего на свет родилось заключение, подписанное членом сценарно-редакционной коллегии Л. Шмугляковой. Цитирую:
«Материал при целом ряде удачных сцен в первой половине вызвал серьезную тревогу и в творческом плане, и в производственном отношении.
Если сценарий был написан в определенном жанре, условно называемом «вестерном», то представленный материал наводит на размышление, что режиссер видит фильм в ином жанре… Усложнение характеристик действующих лиц, ненужные психологические подробности и мотивировки привели к затянутым сценам, действие потеряло четкость и ясность.
Целый ряд сцен во второй половине материала требует серьезного авторского и редакторского осмысления. Если первые сцены с Верещагиным производят приятное впечатление, то во второй половине материала следует подумать, нужен ли разговор Верещагина с Суховым через стенку бака, нужно ли такое количество драки Верещагина на баркасе, когда драка выглядит весьма пародийно, опереточно, а беспокойства, напряжения от предполагаемого взрыва баркаса нет, так как он плохо подготовлен. Также не подготовлена опасность взрыва гарема подпоручиком.
В фильме должно быть поменьше крови.
Фильм выиграет, если в сценах Сухова и гарема, которые еще будут сниматься, появится лирика (это относится особенно к финальному прощанию) и юмор. Учитывая, что актер Кузнецов не получился в фильме «суперменом», нужно подумать над тем, не убрать ли «суперменские» характеристики Сухова.
Нужно сократить часть материала. Например, отказываясь от неинтересно снятого павильонного эпизода «Старая крепость» (эпизод из начала фильма, в нем Абдулла убегает от Рахимова, оставляя ему свой гарем. — Ф. Р.), группа тем самым откажется от съемок объекта на натуре с достройкой «старой крепости». А вот финальный поединок Сухова и Абдуллы нужно написать заново и снять…»
В роли Настасьи Верещагиной снималась актриса Раиса Куркина, на тот момент жена режиссера картины Владимира Мотыля.

Решением руководства ЭТО срок сдачи фильма продлили до 29 мая. Однако дальнейшие события стали развиваться таким образом, что доделывать и окончательно сдавать картину едва не пришлось другому режиссеру, поскольку с Мотылем внезапно договор решили расторгнуть. Видимо, его упертость в своем видении фильма окончательно достала ЭТО. В итоге стали искать другого постановщика и вскоре остановили свой выбор на Владимире Басове. Тот как нельзя кстати оказался свободен (еще в июне прошлого года закончил работу над 4-й частью фильма «Щит и меч») и вполне мог завершить «Белое солнце…» Однако сам Басов этого не захотел в знак солидарности с Мотылем. (Позвонив ему домой, Басов возмущался: «Что я им, шакал, что ли?»).
После отказа Басова было принято и вовсе жуткое решение — смыть весь отснятый материал. Мотыль в надежде остановить это решение отправился к Чухраю (тот в те дни монтировал свою документальную ленту «Память» про Сталинградскую битву), но Чухрай встретил его холодно, разговаривал через спину короткими репликами. И тогда Мотыль прибег к последней возможности изменить ситуацию в свою пользу. 27 марта он написал письмо самому министру кинематографии Алексею Романову. Процитирую отрывок из этого письма:
«Фильм «Белое солнце пустыни», отснятый на 2/3, законсервирован и может не завершиться вообще. Между тем это одна из попыток творческого освоения «вестерна» в нашем кинематографе, которая сулит широкий зрительский интерес, рассчитана на прокатный эффект, на большую прибыль.
Не только уже истраченные почти 400 тысяч рублей заставляют меня просить Вас о приеме. Я хотел бы при встрече рассказать Вам, на чем основана моя вера в зрительский успех будущей картины, а также познакомить Вас с той необходимой и важной сегодня воспитательной идеей, которую я стараюсь пронести в этой картине…»
Министр письмо получил, однако режиссера не принял, видимо, сочтя это лишним. После этого на картине можно было смело ставить крест, если бы в дело не вмешалось само Провидение в лице Министерства финансов. Оно наотрез отказалось списывать убытки (те самые «почти 400 тысяч»), поскольку в 68-м году на киношной «полке» уже успело накопиться несколько других картин. «Мосфильм» стал перед серьезной дилеммой: что делать? В итоге на окончательном совещании в Госкино, состоявшемся той же весной 69-го, зампред Баскаков подводит итог этим мытарствам: «Производство придется завершить. И Мотыля на картине оставить».
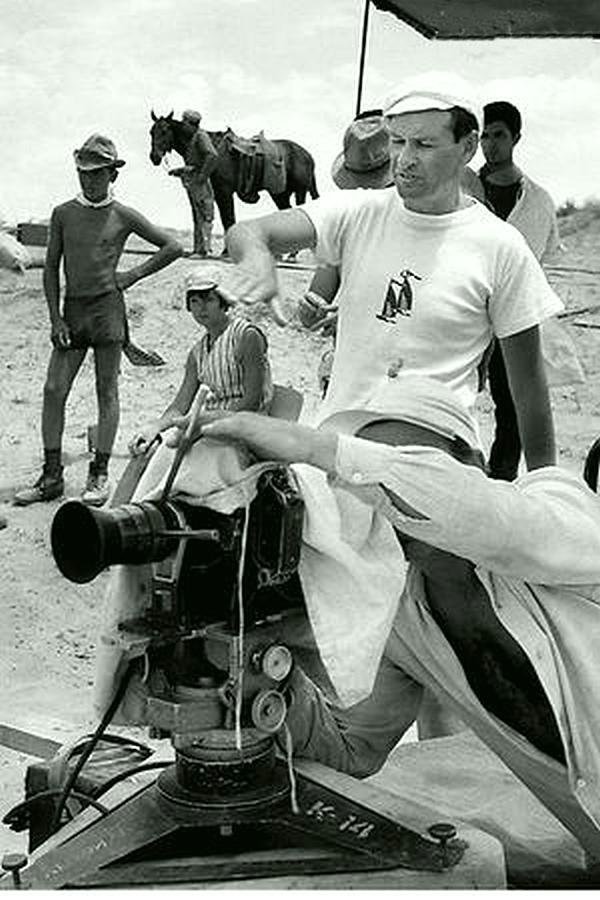
Тем временем съемочная группа активно занималась выбором мест натурных съемок для нового финала картины, причем уже не в Дагестане, а в Средней Азии. Сначала, как мы помним, хотели снимать в Узбекистане (в Хиве) и Красноводске, но затем остановились на Туркмении, на окрестностях города Байрам-Али. При этом пришлось по-настоящему потрудиться, чтобы привести эти места в надлежащий киношный вид. Дело в том, что в зиму 69-го в Каракумах выпало так много дождей, что вся растительность вылезла наружу и пески буквально скрылись под высокими травами. Мотыль со своими ассистентами облетели на вертолете сотни километров, однако нужной натуры так и не нашли. Кое-кто тогда советовал режиссеру оставить в покое Каракумы и снимать фильм в днепровских дюнах, где и натура не хуже, и жара не такая изнурительная. Но Мотыль настоял на своем и привлек на помощь армию: солдаты среднеазиатского военного округа за считанные недели пропололи десятки квадратных километров пустыни возле Байрам-Али.
Съемочная группа вылетела туда 18 мая в несколько обновленном составе. О новом редакторе я уже упоминал (он приедет в Туркмению чуть позже), а из актеров новым человеком была исполнительница роли Гюльчатай Татьяна Федотова, заменившая прежнюю — Татьяну Денисову. Стоит отметить, что Федотова впервые объявилась на съемочной площадке «Белого солнца…» еще в конце декабря прошлого года, заменив актрису, исполнявшую до этого роль Зарины. Федотова побывала на съемочной площадке от силы два-три раза, после чего про нее забыли. И вновь вспомнили тогда, когда из фильма внезапно ушла еще одна гаремная жена — Татьяна Денисова. Почему? Будучи студенткой циркового училища, она внезапно получила выгодный контракт с собственным номером, от которого не смогла отказаться. Что вполне понятно: в кино она играла эпизодическую роль, да еще в фильме, который вот уже больше года мурыжили поправками, а в цирке перед ней открывались куда более выгодные перспективы. Вот она и ушла. Поскольку искать ей замену времени уже не оставалось, решили одеть в паранджу Гюльчатай Татьяну Федотову. Кстати, о том, как и где ее нашли в первый раз, стоит рассказать отдельно.
Татьяна Денисова в роли Гюльчатай
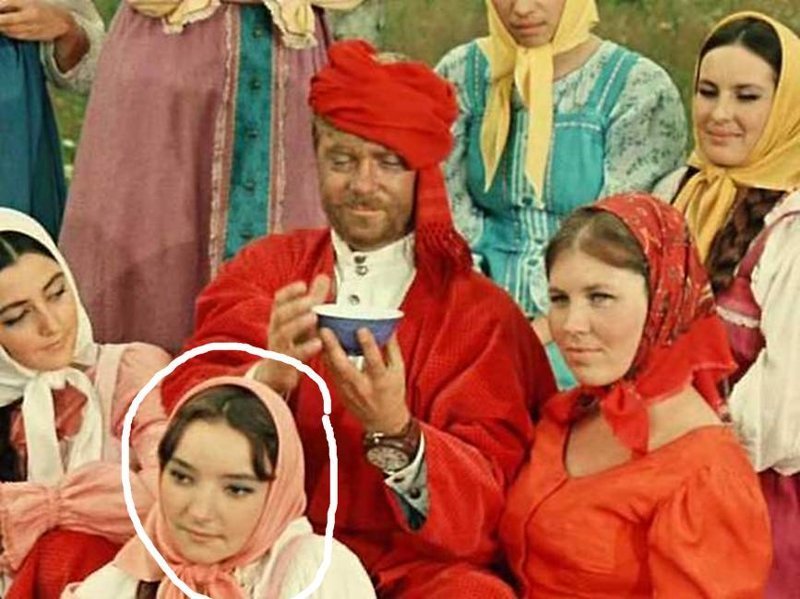
Обнаружил Федотову ассистент режиссера Конюшев, причем совершенно случайно. Однажды он отправился встречать из балетного училища имени Вагановой знакомую девушку и на входе столкнулся с прелестной 17-летней особой. Это и была Таня Федотова. Она в тот день прогуливала урок, спешила из училища, но попалась на глаза киношнику. Поначалу она очень испугалась того, что незнакомый дядька схватил ее за локоть — думала, что тот потащит ее за прогул уроков к директору. А когда поняла, чего тот от нее хочет, тут же повеселела и согласилась прийти на «Ленфильм». Там ее чуть ли не с ходу утвердили на роль Зарины. Но эти съемки не потребовали от студентки больших усилий — она даже учебу не прерывала. Иначе складывалась ситуация с ролью Гюльчатай — теперь Федотовой предстояла длительная отлучка из города, а на носу были экзамены. Но ситуация разрешилась благополучно. Директор училища оказался человеком, любящим кино: он отдал команду зачесть студентке Федотовой экзамен и отпустил на съемки в пустыню. При этом, правда, заметив: «И что вы нашли в Федотовой, ведь она у нас всегда считалась «серой мышкой?»
Т. Федотова родилась в 1951 году в деревне Самша Тверской области. Ее мать была матерью-героиней, поскольку родила на свет десять детей (Татьяна была пятой). Будучи не в состоянии прокормить такое количество детей, родители некоторых, в том числе и Таню, отдали в интернат. Там Татьяна попала в танцевальный кружок, где быстро стала лучшей плясуньей. За это по «разнарядке» ее вскоре отправили в Ленинград, в вагановское училище. Но там девочка чувствовала себя «не в своей тарелке», поскольку была худышкой, да еще с крестьянскими корнями. Частенько она прогуливала уроки и несколько раз даже пряталась в шкафу, лишь бы не идти на ненавистные уроки. Прогуливать уроки, конечно, плохо, но факт остается фактом: не «сачкани» Татьяна от урока в тот день, когда в училище пришел ассистент Мотыля, мы бы увидели в фильме другую Гюльчатай.
17-летняя студентка Вагановского балетного училища Татьяна Федотова (озвучила роль в фильме Надежда Румянцева). Но в первой сцене Сухов видит во сне в розовом платке именно первую исполнительницу Татьяну Денисову.

В Байрам-Али была всего лишь одна гостиница, но киношники отказались от ее услуг, поскольку сервис там был не просто отвратительный, его вообще не существовало. В итоге решили поселиться в тамошней военной части, в общежитии офицеров. Съемки должны были начаться 20 мая, но помешала непогода, которая длилась аж целую неделю.
В итоге первый съемочный день случился только 26 мая. В тот день сняли два кадра из начала фильма: Сухов идет по пустыне, а также эпизоды «В Педженте» (кстати, улицы города были возведены руками декораторов во главе с художником Валерием Костриным, который мастерски сработал не только павильоны, но и нефтеналивные баки, домик Верещагина и многие другие декорации): Сухов, Петруха и гарем входят в город; Сухов приходит к гарему.
27 мая — Сухов устраивает перекличку гарема в пустыне; Гюльчатай играет с черепахой; Сухов и гарем идут по пустыне; Сухов приходит к гарему, жены от него шарахаются, а Гюльчатай их успокаивает: «Не бойтесь, это же наш господин…»; Петруха объясняется в любви Гюльчатай: «Ты не думай, я не какой-нибудь, если что я и по-серьезному… Это ничего, что ты там чьей-то женой была: ты мне по характеру подходишь — я шустрых люблю. Я ведь и посвататься могу. У меня мама хорошая, добрая, ее все уважают. Да открой ты личико!»; Сухов прерывает монолог Петрухи и назначает Гюльчатай старшей по общежитию; Петруха оправдывается: «Товарищ Сухов, я ж по-серьезному, я жениться хочу. Мне бы личико увидеть, а то вдруг крокодил какой, потом томись всю жизнь».
В течение слудующих шести дней (28 — 31 мая и 1 июня) съемки не проводились из-за плохой погоды. По этому случаю часть группы отправилась в город развлечься. В частности, Николай Годовиков и Татьяна Федотова заглянули в тамошний парк отдыха, где устраивались танцы. Но едва они появились на танцплощадке, как на Гюльчатай сразу «положили глаз» местные туркмены. Действовали они бесцеремонно, даже стали предлагать деньги Годовикову, чтобы тот продал свою спутницу. В конце концов молодому актеру пришлось пустить в ход кулаки, даже невзирая на то, что численный перевес был на стороне туркменов. На его счастье, рядом оказался один из его знакомых — Сашка-лейтенант, занимавшийся когда-то боксом, который несколько уравнял шансы сторон в этом поединке. Драка длилась несколько минут, после чего актерам пришлось скоренько ретироваться с танцплощадки.

2 июня съемки фильма возобновилась. В тот день снимали эпизоды: Петруха, услышав подозрительный шум, уходит с поста и находит хранителя музея (Николай Бадьев), который прячет от бандитов иконы; хранитель музея показывает Сухову карту подземного хода; бандиты возле бака, где спрятался Сухов с гаремом; Абдулла кричит Верещагину (естественно, никакого баркаса и Павла Луспекаева перед ним не было и в помине): «Хочешь, мы заплатим золотом?!»; Абдулла и Махмуд лежат в укрытии; Абдулла стреляет в Саида (и опять в «пустоту», поскольку актера Спартака Мишулина в экспедиции пока нет — он приедет позже); Абдулла встает и направляется к баку (справа по ходу его движения виден дувал, которого в каспийских эпизодах не было).
В тот же день сняли часть эпизодов из финала фильма, — гибель Абдуллы. Как мы помним, прежний финал высокое начальство забраковало, поэтому потребовался новый. Теперь его кульминация происходила не в воде, а на суше: Абдулла лез на бак, а Сухов стрелял в него сзади, предварительно окликнув: «Я здесь, Абдулла».
3 июня — Абдулла убивает хранителя музея; Абдулла лежит в луже нефти.
4 июня — Гюльчатай танцует перед Суховым; Абдулла с нукерами рыщут по музею в поисках Сухова и гарема; по иконке, которую хранитель музея прижимает к груди, стекает струйка крови (этот эпизод бдительные цензоры заставят из картины вырезать); Сухов спит на верхотуре музея; Абдулла убивает Петруху.
Вспоминает Н. Годовиков: «На съемках вино-водочка рекой лились. А иначе было бы непросто выдержать колоссальный темп работы. Да и многих алкоголь спасал от расстройства желудка — вода в Дагестане и в Туркмении была дрянная. Признаться, для меня съемки под Байрам-Али прошли под знаком… дизентерии. Когда снимали эпизод, в котором я прошу: «Гюльчатай, открой личико», у меня была температура под сорок. А когда меня закалывал Абдулла, я был почти в бессознательном состоянии. После каждого дубля убегал за угол и сидел весь в поту. Пил только зеленый чай, есть ничего не мог. Если помните, Абдулла сначала отнимал у меня винтовку, а потом бил меня ребром ладони по шее. Естественно, бил не по-настоящему, чуть не доносил руку, а я должен был вылететь из кадра. И получалось, что я либо раньше вылетал, либо позже. В конце концов я попросил Кавсадзе: «Кахи Давыдович, бей меня по-настоящему, чтобы я контакт почувствовал». У нас было дублей шесть, и после каждого дубля я просто кровью плевался: хотел он или нет, но поразбивал мне все. Вдобавок, когда штыком меня закалывал, он промахнулся мимо дощечки, которую мне приделали на грудь пиротехники. Я как заорал, а Мотыль говорит: все отлично, сняли. Оставалось снять сцену, где лежат убитые Петруха и Гюльчатай, а я чувствую: все, отрубаюсь. Говорю Мотылю: «Владимир Яковлевич, больше не могу». Он стал уговаривать: «Ты представляешь, сколько времени и средств будет потеряно?» В итоге сняли мы этот эпизод, отошел я в сторону и упал без сознания. В машине Мотыля меня и увезли со съемочной площадки».

Тем временем съемки продолжаются. 5 июня снимали эпизоды: хранитель музея не хочет пускать Сухова с гаремом в музей, но красноармеец решительно пресекает поползновения старика.
6 июня — Сухов и гарем идут по Педженту; Петруха вновь пытается увидеть личико Гюльчатай, но она на его просьбы не реагирует.
7 — 9 июня — выходные дни.
10 июня — Сухов и гарем входят в Педжент; Гюльчатай танцует перед Суховым, но тот не поддается на чары несовершеннолетней.
11 июня — отмена съемки.
12 июня — Сухов и гарем подходят к арке музея; Петруха целится в Абдуллу, но его горе-винтовка дает осечку.
13 июня — Абдулла с бандитами врываются в Педжент.
14 июня — предстояла съемка в пустыне. Поскольку в районе Мары-Байрам-Али необходимых для съемок песков не было, группе пришлось переехать на 90 километров от своей базы под Малый Хаусхан. Наземный транспорт в группе был хиленький, на такие переезды явно не рассчитанный, поэтому уже в первый день сломался. Съемку пришлось отменить. Кстати, из-за этих и других трудностей чуть ли не половину технического персонала группы пришлось сменить — люди не выдерживали тяжелых условий труда и просились обратно.
16 — 17 июня — отмена съемки из-за непогоды.
18 — 19 июня — выходные дни.

20 июня группе наконец удалось благополучно добраться до нужного места в пустыне и приступить к работе. В тот день снимали проход Сухова и гарема по пескам.
21 июня — Сухов идет по пустыне; Сухов схватывает за раненое плечо; Сухов, убив Абдуллу, смотрит вдаль.
22 июня — пересъемка эпизода «Голова Саида». Предыдущий эпизод, который снимали в Дагестане, чем-то не удовлетворил высокое начальство. Актеру Спартаку Мишулину вновь пришлось идти на жертвы: его закапывали в песок до подбородка, и все те несколько дублей, что длилась съемка, обливали холодной водой и ставили тент, чтобы защитить от палящего солнца.
23 июня — съемка не состоялась из-за поломки лихтвагена.
24 июня — Саид едет по пустыне, вдруг слышит крики «Стой!» за спиной, срывает с плеча винтовку и стреляет в преследователей из-под брюха лошади. Эпизод едва не стоил здоровья Мишулину. Зная, что лошадь может испугаться выстрела, конники под руководством опытного каскадера П. Тимофеева сделали специальные металлические подпорки, которые должны были удержать животное на месте. Но когда после выстрела порох обжег брюхо лошади, она снесла подпорки и рванула в сторону. Мишулин от неожиданности вывалился из седла, да еще запутался в стременах. Дело могло завершиться самым печальным образом, если бы сам актер не сумел вовремя собраться — он сделал кульбит и «отсоединился» от обезумевшей лошади. Через некоторое время эпизод все-таки пересняли, использовав другое, более покладистое животное.
25 июня — съемка не проводилась из-за непогоды.
26 июня — выходной день.
27 июня — Сухов идет по пустыне; Саид, уйдя от бандитов, ложится рядом с Суховым и говорит: «Обманут тебя. Они погрузят баркас, ты отпустишь Абдуллу, они вернутся». Ответ Сухова короток: «Это вряд ли»; бандиты падают с лошадей.
28 июня — пересъемка нескольких сцен «возле баркаса», когда Сухов и Саид расправляются с Ибрагимом и его людьми.
29 июня — съемка отменена из-за болезни лихтвагенщика.
30 июня — Сухов идет с гаремом по пустыне; Сухов подходит к дому Верещагина; Cухов после убийства Петрухи и Гюльчатай бежит за Абдуллой.
1 июля — Сухов идет по пустыне.
2 июля — Сухов строчит из пулемета; Сухов кричит Верещагину, чтобы тот уходил с баркаса.
3 июля — Сухов идет по пустыне.
4 — 5 июля — досъемка эпизодов в «старой крепости»: Рахимов находит гарем; Рахимов Петрухе: «Совсем озверел Черный Абдулла…»; отряд Рахимова уходит из Педжента.
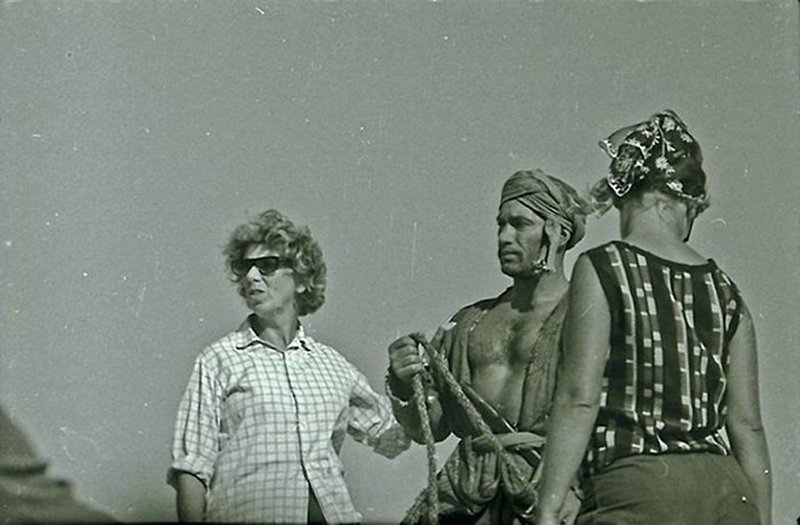
5 августа на «Ленфильме» состоялась досъемка монтажных планов Кавсадзе и Годовикова к эпизоду убийства Абдуллой Петрухи. Тогда же во время монтажа в картину были вставлены письма Сухова Катерине Матвеевне. Причем из-за того, что первоначальный текст Мотыля не удовлетворил, Марку Захарову пришлось его переписывать заново. Однако Кузнецов, который должен был их озвучивать, все еще находился на съемках в ГДР и приехать в Москву в ближайшее время никак не мог. Что делать? И тогда на помощь пришел немецкий режиссер Конрад Вольф, который в те дни снимал в СССР фильм «Гойя». Через его администратора Мотыль послал Кузнецову звуковое письмо, а Вольф помог получить смену в тонстудии киностудии ДЕФА. Так что письма Сухова, которые звучат в фильме, имеют берлинское происхождение.
Из других интересных деталей монтажно-тонировочного периода назову такие, о которых, уверен, подавляющее большинство зрителей, смотревших этот фильм уже не один десяток раз, даже не догадываются. Например, такие: некоторых главных персонажей озвучивали совсем другие актеры, так как снимавшиеся либо имели какие-то дефекты речи, либо не смогли справиться с дубляжем. Так, Гюльчатай озвучивала Надежда Румянцева, Петруху — актер Соловьев, а Абдуллу — Михаил Волков (тот самый, что гремел в конце 60-х ролью советского разведчика Крылова-Крамера в фильмах «Путь в «Сатурн» и «Конец «Сатурна»).
Между тем мытарства фильма продолжались. Отсмотрев отснятый материал, худсовет вновь набросился на режиссера с претензиями относительно многих эпизодов. Было велено сделать 27 поправок, часть из которых Мотылю пришлось немедленно осуществить. В частности, он сократил эпизоды с пьянством Верещагина, вырезал икону богоматери со струйкой крови в сцене убийства хранителя музея, даже заново переоркестровал музыку Исаака Шварца (запись оркестра Ленинградского академического Малого театра оперы и балета под управлением Л. Корхина состоялась 1 и 6 сентября 1969 года). 18 сентября фильм лично смотрел генеральный директор «Мосфильма» Сурин и остался недоволен просмотром. С его подачи акт о приемке картины в Госкино подписывать не стали. Над фильмом нависла явная угроза «полки». Но тут случилось ЧУДО.
У Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева была такая привычка — по выходным дням смотреть в своем домашнем кинотеатре на даче в Завидово новые фильмы. Причем любимыми картинами генсека еще с молодости были, как мы помним, американские вестерны (особенно он обожал актера Чака Коннорса). Вот и в тот раз, накануне ноябрьских праздников 69-го, Брежневу для просмотра должны были привезти из Особого отдела (был такой склад в Госкино, который обслуживал исключительно высшую номенклатуру) очередной свежий вестерн. Но по каким-то неведомым причинам картины на месте не оказалось, и заведующий складом на свой страх и риск отправил генсеку заменитель вестерна — свежий отечественный истерн «Белое солнце пустыни».
Брежневу, который смотрел фильм в компании молодых друзей своей дочери Галины, фильм понравился чрезвычайно. Особенно ему понравились эпизоды, когда Сухов выбивает маузер из рук бандита и укладывает двух врагов наповал, и драка на баркасе. Генсеку также пришлась по душе и песня в исполнении Павла Луспекаева. В итоге тем же вечером Брежнев позвонил домой министру кинематографии Романову. А тот в течение нескольких минут никак не мог сообразить, о чем именно идет речь. Брежнев на том конце провода буквально заходился от восторга от просмотренного кино, а министр лихорадочно пытался сообразить, какой конкретно фильм тот имеет в виду. А Брежнев продолжал заливаться соловьем:
— Молодец, Ляксей, хорошее кино снимают твои люди. Не хуже американского.
Наконец Романов собрался с духом и, прервав сумбурную речь генсека, спросил:
— А какой фильм вы смотрели, Леонид Ильич?
— Как какой? — удивился Брежнев. — Про солнце, которое в пустыне. — И генсек, не прикрывая трубку, уточнил у кого-то, кто стоял с ним рядом, название фильма, который они только что смотрели, чтобы уже через пару секунд сообщить его Романову:
— «Белое солнце пустыни».
Романов похолодел, так как сам этого фильма еще не видел, а значит, поддержать должного разговора с генсеком никак не мог. Но тот, к счастью, и не собирался долго обмусоливать эту тему, только еще раз поблагодарил министра за картину и повесил трубку.
Утром следующего дня министр, придя на работу, первым делом затребовал к себе упомянутую картину. Как вспоминает В. Мотыль:
«Романов сидел в просмотровом зале, кажется, впервые не испытывая страха что-либо проглядеть. Он мог смотреть картину как обыкновенный зритель. В тот же день от министра поступило указание о трех (но ведь не о двадцати семи!) поправках. Иначе какой же он министр, если не внесет своей лепты.
Таможенник не должен лежать на полу (в сцене, где он выбрасывает офицерика) — иначе он алкоголик, а не герой. Ну, что ж, комбинаторы сделали выкадровку — стало непонятно, на чем он лежит. Убрали насмешку над святыней — надпись «Карл Маркс» (нельзя — основоположник) на книжке, которую держит одна из жен Абдуллы в кадре коллективного труда. Наконец «убрали порнографию», — могучие ляжки Катерины Матвеевны при переходе ее через ручей. Как бы не перевозбудить строителей коммунизма. У меня быль дубль, где ляжки полуприкрыты юбкой — я поставил его. Разрешительное удостоверение было получено…»
Между тем гонители фильма, чтобы хоть как-то сгладить горечь от собственного поражения, дали ему 2-ю прокатную категорию (чтоб заплатить поменьше создателям), да еще вдобавок стали распускать слухи в киношной среде, что спасли плохую картину письма Сухова, которые Мотыль переделал по решению худсовета. На что Мотыль приводил вполне убедительный контраргумент: мол, фильм-то он начал снимать как раз с вне сценарной Катерины Матвеевны. Это все были немые кадры, предназначавшиеся для того, чтобы на немое изображение положить потом закадровые монологи героя. Впоследствии в Дагестане и в Каракумах Мотыль набрал в импровизациях съемок длинные общие планы, свободные от панорамы, именно как заготовки для текстов, которые будут потом писаться, разумеется, не на съемках, а в период тонировки, когда фильм будет снят.

Между тем с выходом картины на экран издевательства над ней не прекратились, а стали еще изощреннее. Например, несмотря на то, что в первый же год проката ее посмотрели почти 40 миллионов человек, ни на один из Всесоюзных кинофестивалей «Белое солнце…» так и не попало. К примеру, в том же 70-м году фильм вполне имел шансы быть включенным в список участников 4-го кинофестиваля, проходившего в Минске, но был проигнорирован (там 1-ю премию получил хороший фильм «Мертвый сезон», снятый еще в 68-м году, а 2-ю премию — давно позабытый всеми «Выстрел на перевале Караш»).
Год спустя «Белое солнце…» «прокатили» и с Государственной премией СССР. В тот год на премию были выдвинуты пять картин: «Не горюй!» Георгия Данелия, «Влюбленные» Эльера Ишмухамедова, «У озера» Сергея Герасимова, «Обвиняются в убийстве» Бориса Волчека и «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля. Первые два фильма получили «отлуп» в киношной секции практически сразу, поскольку были абсолютно неидеологизированы, что уже считалось крамолой. Когда же очередь дошла до «Белого солнца…», министр культуры Екатерина Фурцева честно заявила, что он — «хороший, полезный фильм, но он не пройдет. Есть мнение сверху оставить фильмы «У озера» и «Обвиняются в убийстве».
После такого заявления судьба картины на голосовании была практически решена — ее дружно выкинули из соискателей премии. А чтобы подсластить пилюлю, в решении записали: «Фильм «Белое солнце пустыни» несомненно обладает большими художественными достоинствами и имеет большой успех. Учитывая ограниченное число премий и наличие двух кандидатур по художественной кинематографии, уже рекомендованных секцией, сочли возможным снять фильм с обсуждения».
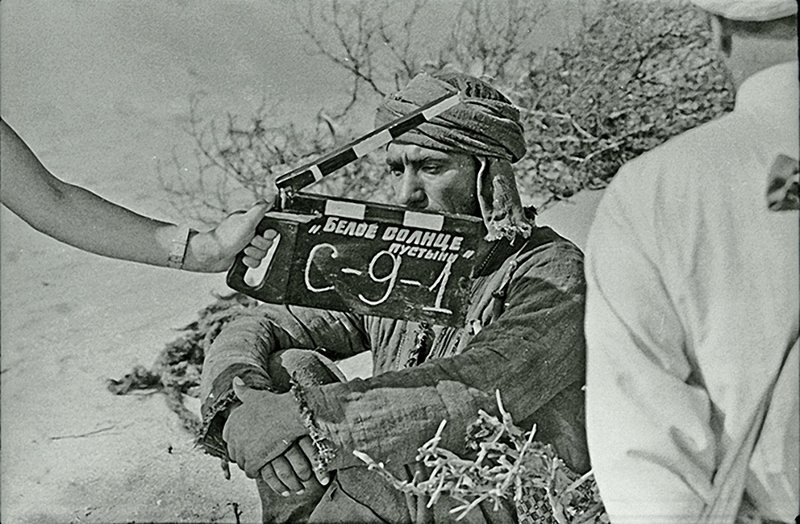
Простите за необъятный пост. Жалко было каждый абзац из найденного в Сети. Спасибо всем кто дочитал до конца.
Источники информации:
1. http://filmmaker.com.ua/histori/soln_pust1.html
2. https://rnbee.ru/post-group/beloe-solntse-pusty-ni-isternom-po-vesternu/
3. https://my.mail.ru/community/movies-stars/780F63FE5BEF2552.html
4. https://www.liveinternet.ru/tags/%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%AB%D0%9B%D0%AC/
5. https://biography.wikireading.ru/155043 — главы из книги «Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации. Наши любимые фильмы» Автор — Раззаков Федор
Подбор фотографий из свободного доступа в Сети мой.




















