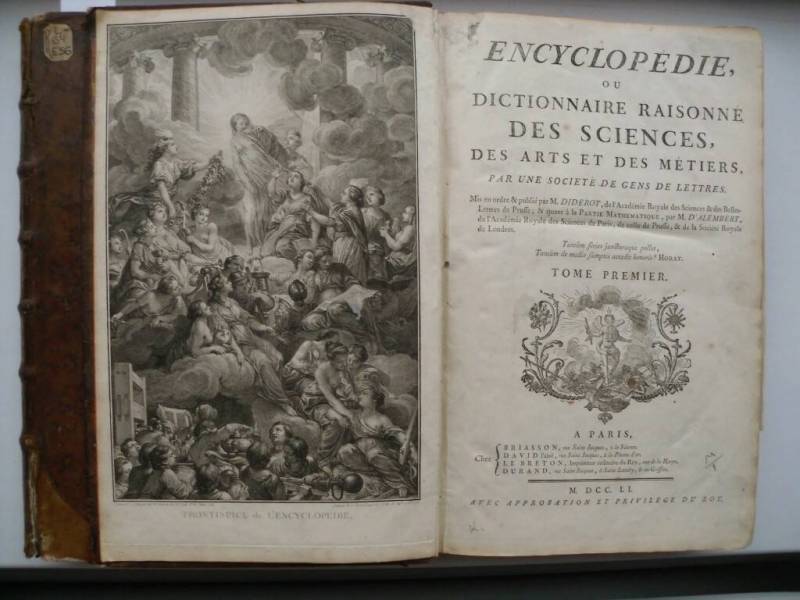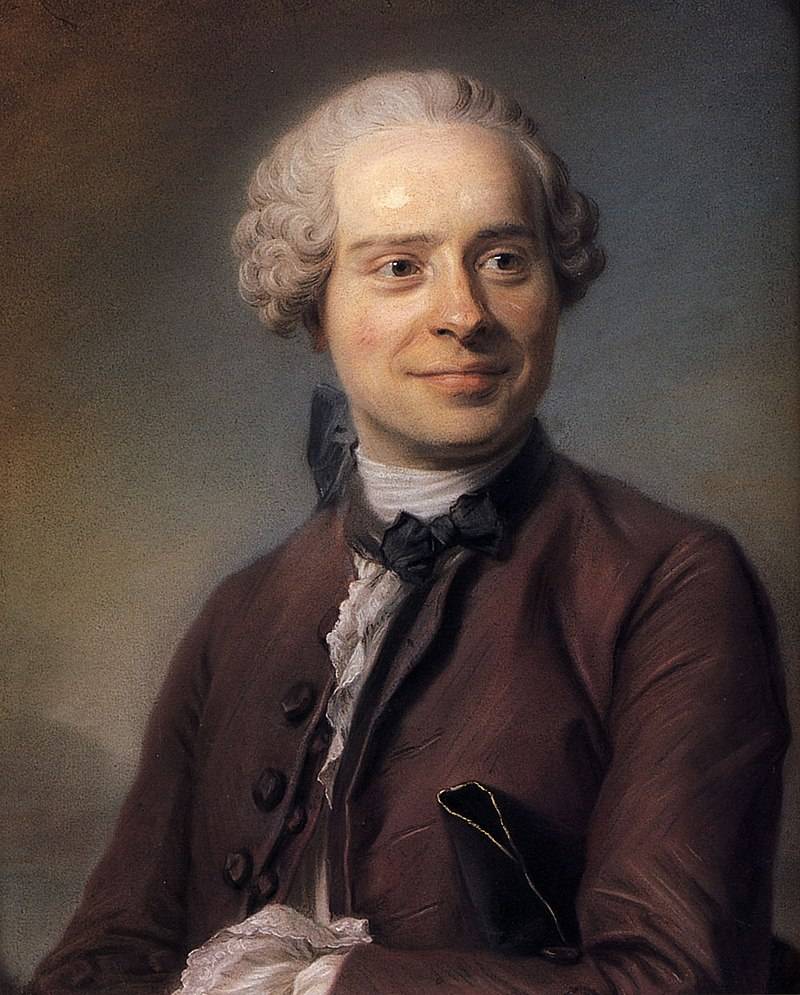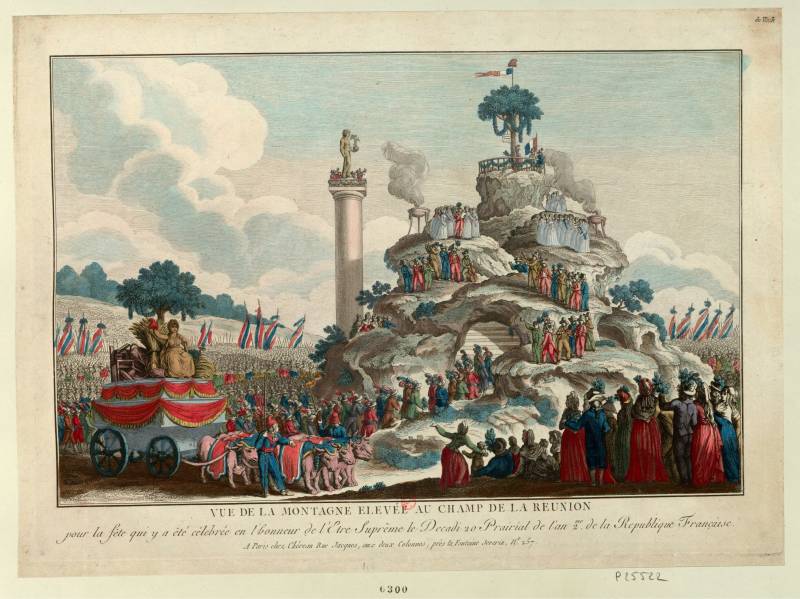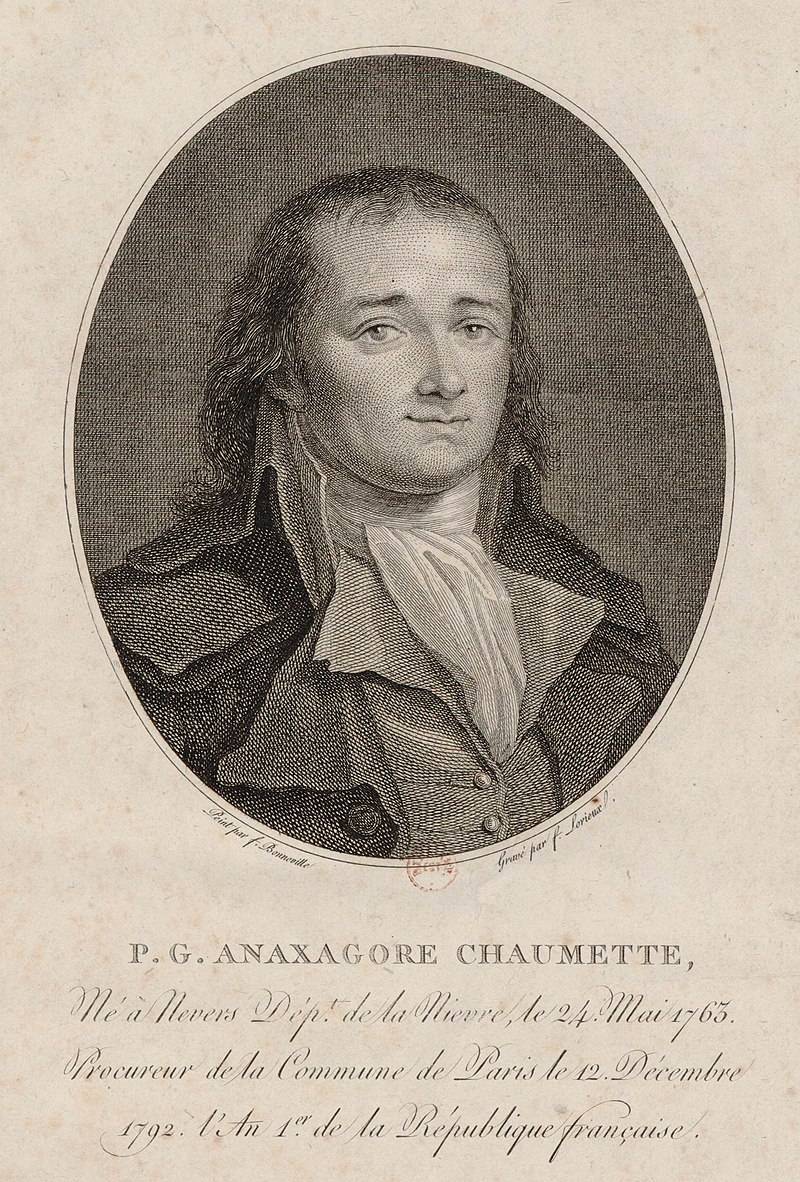Праздник Верховного Существа 8 июня 1794 г. на Марсовом поле в Париже.
Культ Разума (фр. Culte de la Raison) — один из элементов процесса дехристианизации во время Французской революции. Создан Пьером Гаспаром Шометтом, Жаком-Рене Эбером и их последователями (см. Эбертисты) с намерением упразднить христианскую религию во Франции.
Культ Разума получил широкое распространение в период 1793—94 гг. После сентябрьских убийств и особенно после издания коммуной Парижа 24 ноября 1793 года декрета о запрете католического богослужения и закрытии всех церквей, церкви в Париже стали превращать в храмы Разума. В процессе дехристианизации 5 октября 1793 года григорианский календарь был заменён на французский республиканский календарь.
Первые варианты культа Разума появились за пределами Парижа. В сентябре—октябре 1793 года Жозеф Фуше организовывал празднества в департаментах Ньевр и Кот-д’Ор. В Рошфоре Леньело преобразовал приходскую церковь в «Храм Истины», где 31-го октября 1793 года шесть католических священников и один протестантский в торжественной обстановке отреклись от своей религии. Церемонии культа Разума сопровождались проведением карнавалов, парадов, принуждением священников отрекаться от сана, разграблением церквей, уничтожением или оскорблением христианских священных предметов (иконы, статуи, кресты и т. п.). Кроме этого, проводились церемонии почитания «мучеников Революции». Подобные события встречались также в других частях Франции. Наибольшего развития культ достиг в Париже, во время проведения «Фестиваля свободы» (фр. Fête de la Liberté) в Соборе Парижской Богоматери 10 ноября (20 Брюмера) 1793 года. В ходе церемонии, придуманной и организованной П. Г. Шометтом и проводимой внутри собора, артистка Парижской оперы Тереза-Анжелика Обри (1772—1829) короновалась как «Богиня Разума»[1]. Её образ стал основой для новеллы «Богиня разума» Ивана Бунина.
Культ Разума быстро захватил почти всю Францию, как деревенскую, так и городскую[2], он пользовался поддержкой значительной части санкюлотов. Однако не везде люди отказывались от религии, а священники — от сана. Во многих деревнях крестьяне выступали с требованиями открытия церквей и восстановления католической религии[2]. Максимилиан Робеспьер, будучи фактическим главой правительства, с 21 ноября 1793 года начал протестовать против действий дехристианизаторов. Он заявлял, что Конвент, принимая проявления гражданственных чувств, отнюдь не думал упразднять католический культ[2]. Он также решительно высказывался против атеизма как мировоззрения, по его мнению, аристократического и выступал за то, что «идея великого существа, блюдущего угнетенную невинность и карающего торжествующее преступление, является чисто народной идеей». 6—7 декабря 1793 года Конвент официально осудил меры насилия, «противоречащие свободе культов». В марте 1794 года культ Разума был запрещён, а Эбер и Шометт казнены (по суду Революционного трибунала эбертисты были гильотинированы 24 марта 1794 года, Шометт — 13 апреля 1794 года). 7 мая 1794 года Конвент своим декретом установил в качестве государственной «гражданской религии» Франции «культ Верховного Существа»[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Культ_Разума
Культ Верховного Существа (фр. Culte de l’Être suprême) — религиозный культ, внедрявшийся во время Великой французской революции в 1794 году в виде ряда официальных государственно-революционных празднеств.
Культ Верховного Существа утверждался властями в борьбе, во-первых, с христианством, прежде всего с католицизмом как традиционной религией большинства французов (представляя собой часть процесса дехристианизации), а во-вторых, с рационалистическим «культом Разума», за который выступали конкурирующие группировки во властных кругах.
С идейной стороны культ Верховного Существа наследовал деизму Просвещения (Вольтер) и во многом философским взглядам Руссо, разрабатывавшего идеи естественной религии. Целью культа, включавшего также ряд праздников в честь республиканских добродетелей, было «развитие гражданственности и республиканской морали».
Термин «Бог» (фр. Dieu) избегался и заменялся на термин «Верховное Существо» (фр. l’Être suprême). Данный термин употреблялся философами и публицистами и до революции с разным религиозным и философским содержанием (в том числе и в рамках традиционного католицизма). Важно, что он был включён в авторитетную Декларацию прав человека и гражданина 1789 г.: права были установлены Национальным собранием «перед лицом и под покровительством Верховного Существа». Введённый в 1793 году якобинцами новый текст Декларации отсылает уже не к «покровительству», но по-прежнему к «присутствию» Верховного Существа.
Культу Верховного Существа противостоял организуемый левыми радикалами во главе с Шометтом «культ Разума», стоявший на рационалистических позициях. Христианские церкви закрывались (массово с ноября 1793 г.), подвергались разграблению, объявлялись «храмами Разума», в них проводились праздники в честь «Богини Разума», которую в ходе театрализованных представлений изображали актрисы. В Париже в алтаре Собора Нотр-Дам Богиню Разума играла актриса Оперы[1]. Во время праздников Разума на юге Франции, организатором которых был будущий наполеоновский префект полиции Жозеф Фуше, устраивалась казнь преступников.
Внедрение культа в последние месяцы Робеспьера[править | править код]
На неприятие атеизма и культа Разума и поддержку культа Верховного Существа ориентировалась наиболее влиятельная часть якобинцев — монтаньяры во главе с Робеспьером. В марте 1794 г. были осуждены и казнены радикальные якобинцы во главе с Эбером и Шометтом, а культ Разума запрещён. В последние месяцы правления Робеспьера культ Верховного Существа внедрялся наиболее последовательно. 7 мая 1794 г. под давлением Робеспьера Национальный конвент принял декларацию, согласно которой «французский народ признаёт существование Верховного Существа и бессмертие души». Далее в декларации говорилось: «Он признает, что достойное поклонение Верховному Существу есть исполнение человеческих обязанностей. Во главе этих обязанностей он ставит ненависть к неверию и тирании, наказание изменников и тиранов, помощь несчастным, уважение к слабым, защиту угнетенных, оказывание ближнему всевозможного добра и избежание всякого зла». 8 июня 1794 г. в Париже был организован публичный торжественный праздник Верховного Существа, где с речью выступил Робеспьер. Тем самым фактически вводилась государственная религия в нарушение идеалов Революции и не допускалась свобода совести, что усилило недовольство Робеспьером в обществе.
После Девятого термидора культ Верховного Существа, ассоциировавшийся с диктатурой Робеспьера, быстро сошёл на нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Культ_Верховного_Существа
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Cult of Reason (French: Culte de la Raison)[note 1] was France’s first established state-sponsored atheistic religion, intended as a replacement for Roman Catholicism during the French Revolution. After holding sway for barely a year, in 1794 it was officially replaced by the rival Cult of the Supreme Being, promoted by Robespierre.[1][2][3][4] Both cults were officially banned in 1802 by Napoleon Bonaparte with his Law on Cults of 18 Germinal, Year X.[5]
Origins[edit]
Opposition to the Roman Catholic Church was integral among the causes of the French Revolution, and this anti-clericalism solidified into official government policy in 1792 after the First French Republic was declared. Most of the dechristianisation of France was motivated by political and economic concerns, and philosophical alternatives to the Church developed more slowly. Among the growing heterodoxy, the so-called Culte de la Raison became defined by some of the most radical revolutionaries like Jacques Hébert, Antoine-François Momoro, Pierre-Gaspard Chaumette, and Joseph Fouché.
Composition[edit]
Considerable debate has always persisted about the religiosity of the Cult of Reason.[6] It was a hodgepodge of ideas and activities, a «multifarious phenomenon, marked by disorderliness».[7] The Cult encompassed various elements of anticlericalism, including subordination of priests to secular authority, wealth confiscation from the Church, and doctrinal heresies both petty and profound.[7] It was atheistic,[8][9] but celebrated different core principles according to locale and leadership: most famous was Reason, but others were Liberty, Nature, and the victory of the Revolution.[7]
Antoine-François Momoro[edit]
Antoine-François Momoro (1756–1794)
One of the more philosophical proponents was Antoine-François Momoro in Paris. In his hands, the capital city’s Cult of Reason was explicitly anthropocentric. Its goal was the perfection of mankind through the attainment of Truth and Liberty, and its guiding principle to this goal was the exercise of Reason. In the manner of conventional religion, it encouraged acts of congregational worship and devotional displays to the ideal of Reason.[10] A careful distinction was always drawn between the rational respect of Reason and the veneration of an idol: «There is one thing that one must not tire telling people,» Momoro explained, «Liberty, reason, truth are only abstract beings. They are not gods, for properly speaking, they are part of ourselves.»[10]
The overarching theme of the Cult was summarized by Anacharsis Clootz, who declared at the Festival of Reason that henceforward there would be «one God only, Le Peuple«.[11] The Cult was intended as a civic religion—inspired by the works of Rousseau, Quatremère de Quincy, and Jacques-Louis David, it presented «an explicit religion of man».[10]
Adherence to the Cult of Reason became a defining attribute of the Hébertist faction. It was also pervasive among the ranks of the sans-culottes. Numerous political factions, anti-clerical groups and events only loosely connected to the cult have come to be amalgamated with its name.[12]
Joseph Fouché[edit]
As a military commander dispatched by the Jacobins to enforce their new laws, Fouché led a particularly zealous campaign of dechristianisation. His methods were brutal but efficient, and helped spread the developing creed through many parts of France. In his jurisdictions, Fouché ordered all crosses and statues removed from graveyards, and he gave the cult one of its elemental tenets when he decreed that all cemetery gates must bear only one inscription—»Death is an eternal sleep.»[13] Fouché went so far as to declare a new civic religion of his own, virtually interchangeable with what would become known as the Cult of Reason, at a ceremony he dubbed the «Feast of Brutus» on 22 September 1793.[14]
Festival of Reason[edit]
The official nationwide Fête de la Raison, supervised by Hébert and Momoro on 20 Brumaire, Year II (10 November 1793) came to epitomize the new republican way of religion. In ceremonies devised and organised by Chaumette, churches across France were transformed into modern Temples of Reason. The largest ceremony of all was at the cathedral of Notre Dame in Paris. The Christian altar was dismantled and an altar to Liberty was installed and the inscription «To Philosophy» was carved in stone over the cathedral’s doors.[10] Festive girls in white Roman dress and tricolor sashes milled around a costumed Goddess of Reason who «impersonated Liberty».[15] A flame burned on the altar which was symbolic of truth.[16]
To avoid statuary and idolatry, the Goddess figures were portrayed by living women,[17] and in Paris the role was played by Momoro’s wife, Sophie, who is said to have dressed «provocatively»[18] and, according to Thomas Carlyle, «made one of the best Goddesses of Reason; though her teeth were a little defective.»[19]
Before his retirement, Georges Danton had warned against dechristianizers and their «rhetorical excesses», but support for the Cult only increased in the zealous early years of the First Republic. By late 1793, it was conceivable that the Convention might accept the invitation to attend the Paris festival en masse, but the unshakeable opposition of Maximilien Robespierre and others like him prevented it from becoming an official affair.[20] Undeterred, Chaumette and Hébert proudly led a sizable delegation of deputies to Notre Dame.[21]
Reaction[edit]
Many contemporary accounts reported the Festival of Reason as a «lurid», «licentious» affair of scandalous «depravities»,[22] although some scholars have disputed their veracity.[23] These accounts, real or embellished, galvanized anti-revolutionary forces and even caused many dedicated Jacobins like Robespierre to publicly separate themselves from the radical faction.[24] Robespierre particularly scorned the Cult and denounced the festivals as «ridiculous farces».[21]
In the spring of 1794, the Cult of Reason was faced with official repudiation when Robespierre, nearing complete dictatorial power during the Reign of Terror, announced his own establishment of a new, deistic religion for the Republic, the Cult of the Supreme Being.[25] Robespierre denounced the Hébertistes on various philosophical and political grounds, specifically rejecting their perceived atheism. When Hébert, Momoro, Ronsin, Vincent, and others were sent to the guillotine on 4 Germinal, Year II (24 March 1794), the cult lost its most influential leadership; when Chaumette and other Hébertistes followed them four days later, the Cult of Reason effectively ceased to exist. Both cults were officially banned in 1802 by Napoleon Bonaparte with his Law on Cults of 18 Germinal, Year X.[5]
See also[edit]
- Dechristianisation of France during the French Revolution
- Religion of Humanity
- Cult of the Supreme Being
- League of Militant Atheists
Notes[edit]
- ^ The word «cult» in French means «a form of worship», without any of its negative or exclusivist implications in English; its proponents intended it to be a universal congregation.
References[edit]
Citations[edit]
- ^ Chapters in Western civilization, Volume 1. Columbia University Press. 2012. p. 465.
Holbach carried the cult of reason and nature to its culmination in an atheistic denial of the deists’ Supreme Being, and made the most influential attack on rational religion …
- ^ Flood, Gavin (2012). The Importance of Religion: Meaning and Action in Our Strange World. John Wiley & Sons. ISBN 978-1405189712.
During the French Revolution in 1793 the Gothic Cathedral of Notre Dame de Paris was rededicated to the Cult of Reason, an atheistic doctrine intended to replace Christianity.
- ^ Baker, Keith M. (1987). University of Chicago Readings in Western Civilization, Volume 7: The Old Regime and the French Revolution. University of Chicago Press. p. 384. ISBN 978-0226069500.
In May, he proposed an entire cycle of revolutionary festivals, to begin with the Festival of the Supreme Being. This latter was intended to celebrate a new civil religion as opposed to Christianity as it was to the atheism of the extreme dechristianizers (whose earlier Cult of Reason Robespierre and his associates had repudiated).
- ^ McGrath, Alister (2008). The Twilight Of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World. Random House. p. 45. ISBN 978-1407073767.
He was an active member of the faction that successfully campaigned for the atheistic ‘Cult of Reason’, which was officially proclaimed on November 10, 1793.
- ^ a b Doyle 1989, p. 389
- ^ Furet & Ozouf 1989, pp. 563–564
- ^ a b c Furet & Ozouf 1989, p. 564
- ^ Fremont-Barnes 2007, p. 237
- ^ McGowan 2012, p. 14
- ^ a b c d Kennedy 1989, p. 343
- ^ Carlyle 1838, p. 375
- ^ Kennedy 1989, p. 343: «The Festival of Reason … has come to symbolize the Parisian de-Christianization movement.»
- ^ Doyle 1989, p. 259: «Fouché declared in a manifesto… graveyards should exhibit no religious symbols, and at the gate of each would be an inscription proclaiming ‘Death is an eternal sleep’.»
- ^ Doyle 1989, p. 259: «[Fouché ] inaugurated a civic religion of his own devising with a ‘Feast of Brutus’ on 22 September at which he denounced ‘religious sophistry’.»
- ^ Palmer 1969, p. 119
- ^ «Reason, Cult of Goddess of». Encyclopedia.com. Retrieved 13 October 2018.
- ^ Kennedy 1989, p. 343: «A ‘beautiful woman’ was chosen to represent Reason and Liberty, rather than a statue, so that she would not become an idol.»
- ^ Scurr 1989, p. 267
- ^ Carlyle 1838, p. 379
- ^ Schama 1989, pp. 778–779
- ^ a b Schama 1989, p. 778
- ^ Kennedy 1989, p. 344: «The Festival of Reason in Notre Dame left no impression of rationality on the memories of contemporary observers…. [I]t was evident that the Festival of Reason was a scandal.»
- ^ Ozouf 1988, p. 100ff
- ^ Kennedy 1989, p. 344: «…tales of its raucousness may have contributed to Robespierre’s opposition to de-Christianization in December 1793.»
- ^ «War, Terror, and Resistance«. Center for History and New Media, George Mason University. Archived from the original on 16 August 2018. Retrieved 28 July 2012.
Sources[edit]
- Carlyle, Thomas (1838) [1837]. The French Revolution: A History. Vol. II. Boston, MA: Little & Brown. OCLC 559080788.
- Doyle, William (1989). The Oxford History of the French Revolution. Clarendon Press. ISBN 978-0-19-822781-6.
- Fremont-Barnes, Gregory (2007). Encyclopedia of the Age of Political Revolutions and New Ideologies, 1760–1815. Greenwood Press. ISBN 978-0-313-33445-0.
- Furet, François; Ozouf, Mona, eds. (1989). A Critical Dictionary of the French Revolution. Translated by Goldhammer, Arthur. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-17728-4.
- Goldstein, Morris (2007). Thus Religion Grows – The Story of Judaism. Pierides Press. ISBN 978-1-4067-7349-1.
- Kennedy, Emmet (1989). A Cultural History of the French Revolution. Yale University Press. ISBN 978-0-300-04426-3.
A Cultural History of the French Revolution.
- McGowan, Dale (2012). Voices of Unbelief: Documents from Atheists and Agnostics. ABC-CLIO. ISBN 9781598849790.
- Ozouf, Mona (1988). Festivals and the French Revolution. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-29884-2.
- Palmer, R.R. (1969) [1941]. Twelve Who Ruled. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691051192.
- Schama, Simon (1989). Citizens: A Chronicle of the French Revolution. New York: Vintage. ISBN 978-0679726104.
- Scurr, Ruth (1989). Fatal Purity: Robespierre and the French Revolution. Vintage. ISBN 9780099458982.
External links[edit]
Media related to Cult of Reason at Wikimedia Commons
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Cult of Reason (French: Culte de la Raison)[note 1] was France’s first established state-sponsored atheistic religion, intended as a replacement for Roman Catholicism during the French Revolution. After holding sway for barely a year, in 1794 it was officially replaced by the rival Cult of the Supreme Being, promoted by Robespierre.[1][2][3][4] Both cults were officially banned in 1802 by Napoleon Bonaparte with his Law on Cults of 18 Germinal, Year X.[5]
Origins[edit]
Opposition to the Roman Catholic Church was integral among the causes of the French Revolution, and this anti-clericalism solidified into official government policy in 1792 after the First French Republic was declared. Most of the dechristianisation of France was motivated by political and economic concerns, and philosophical alternatives to the Church developed more slowly. Among the growing heterodoxy, the so-called Culte de la Raison became defined by some of the most radical revolutionaries like Jacques Hébert, Antoine-François Momoro, Pierre-Gaspard Chaumette, and Joseph Fouché.
Composition[edit]
Considerable debate has always persisted about the religiosity of the Cult of Reason.[6] It was a hodgepodge of ideas and activities, a «multifarious phenomenon, marked by disorderliness».[7] The Cult encompassed various elements of anticlericalism, including subordination of priests to secular authority, wealth confiscation from the Church, and doctrinal heresies both petty and profound.[7] It was atheistic,[8][9] but celebrated different core principles according to locale and leadership: most famous was Reason, but others were Liberty, Nature, and the victory of the Revolution.[7]
Antoine-François Momoro[edit]
Antoine-François Momoro (1756–1794)
One of the more philosophical proponents was Antoine-François Momoro in Paris. In his hands, the capital city’s Cult of Reason was explicitly anthropocentric. Its goal was the perfection of mankind through the attainment of Truth and Liberty, and its guiding principle to this goal was the exercise of Reason. In the manner of conventional religion, it encouraged acts of congregational worship and devotional displays to the ideal of Reason.[10] A careful distinction was always drawn between the rational respect of Reason and the veneration of an idol: «There is one thing that one must not tire telling people,» Momoro explained, «Liberty, reason, truth are only abstract beings. They are not gods, for properly speaking, they are part of ourselves.»[10]
The overarching theme of the Cult was summarized by Anacharsis Clootz, who declared at the Festival of Reason that henceforward there would be «one God only, Le Peuple«.[11] The Cult was intended as a civic religion—inspired by the works of Rousseau, Quatremère de Quincy, and Jacques-Louis David, it presented «an explicit religion of man».[10]
Adherence to the Cult of Reason became a defining attribute of the Hébertist faction. It was also pervasive among the ranks of the sans-culottes. Numerous political factions, anti-clerical groups and events only loosely connected to the cult have come to be amalgamated with its name.[12]
Joseph Fouché[edit]
As a military commander dispatched by the Jacobins to enforce their new laws, Fouché led a particularly zealous campaign of dechristianisation. His methods were brutal but efficient, and helped spread the developing creed through many parts of France. In his jurisdictions, Fouché ordered all crosses and statues removed from graveyards, and he gave the cult one of its elemental tenets when he decreed that all cemetery gates must bear only one inscription—»Death is an eternal sleep.»[13] Fouché went so far as to declare a new civic religion of his own, virtually interchangeable with what would become known as the Cult of Reason, at a ceremony he dubbed the «Feast of Brutus» on 22 September 1793.[14]
Festival of Reason[edit]
The official nationwide Fête de la Raison, supervised by Hébert and Momoro on 20 Brumaire, Year II (10 November 1793) came to epitomize the new republican way of religion. In ceremonies devised and organised by Chaumette, churches across France were transformed into modern Temples of Reason. The largest ceremony of all was at the cathedral of Notre Dame in Paris. The Christian altar was dismantled and an altar to Liberty was installed and the inscription «To Philosophy» was carved in stone over the cathedral’s doors.[10] Festive girls in white Roman dress and tricolor sashes milled around a costumed Goddess of Reason who «impersonated Liberty».[15] A flame burned on the altar which was symbolic of truth.[16]
To avoid statuary and idolatry, the Goddess figures were portrayed by living women,[17] and in Paris the role was played by Momoro’s wife, Sophie, who is said to have dressed «provocatively»[18] and, according to Thomas Carlyle, «made one of the best Goddesses of Reason; though her teeth were a little defective.»[19]
Before his retirement, Georges Danton had warned against dechristianizers and their «rhetorical excesses», but support for the Cult only increased in the zealous early years of the First Republic. By late 1793, it was conceivable that the Convention might accept the invitation to attend the Paris festival en masse, but the unshakeable opposition of Maximilien Robespierre and others like him prevented it from becoming an official affair.[20] Undeterred, Chaumette and Hébert proudly led a sizable delegation of deputies to Notre Dame.[21]
Reaction[edit]
Many contemporary accounts reported the Festival of Reason as a «lurid», «licentious» affair of scandalous «depravities»,[22] although some scholars have disputed their veracity.[23] These accounts, real or embellished, galvanized anti-revolutionary forces and even caused many dedicated Jacobins like Robespierre to publicly separate themselves from the radical faction.[24] Robespierre particularly scorned the Cult and denounced the festivals as «ridiculous farces».[21]
In the spring of 1794, the Cult of Reason was faced with official repudiation when Robespierre, nearing complete dictatorial power during the Reign of Terror, announced his own establishment of a new, deistic religion for the Republic, the Cult of the Supreme Being.[25] Robespierre denounced the Hébertistes on various philosophical and political grounds, specifically rejecting their perceived atheism. When Hébert, Momoro, Ronsin, Vincent, and others were sent to the guillotine on 4 Germinal, Year II (24 March 1794), the cult lost its most influential leadership; when Chaumette and other Hébertistes followed them four days later, the Cult of Reason effectively ceased to exist. Both cults were officially banned in 1802 by Napoleon Bonaparte with his Law on Cults of 18 Germinal, Year X.[5]
See also[edit]
- Dechristianisation of France during the French Revolution
- Religion of Humanity
- Cult of the Supreme Being
- League of Militant Atheists
Notes[edit]
- ^ The word «cult» in French means «a form of worship», without any of its negative or exclusivist implications in English; its proponents intended it to be a universal congregation.
References[edit]
Citations[edit]
- ^ Chapters in Western civilization, Volume 1. Columbia University Press. 2012. p. 465.
Holbach carried the cult of reason and nature to its culmination in an atheistic denial of the deists’ Supreme Being, and made the most influential attack on rational religion …
- ^ Flood, Gavin (2012). The Importance of Religion: Meaning and Action in Our Strange World. John Wiley & Sons. ISBN 978-1405189712.
During the French Revolution in 1793 the Gothic Cathedral of Notre Dame de Paris was rededicated to the Cult of Reason, an atheistic doctrine intended to replace Christianity.
- ^ Baker, Keith M. (1987). University of Chicago Readings in Western Civilization, Volume 7: The Old Regime and the French Revolution. University of Chicago Press. p. 384. ISBN 978-0226069500.
In May, he proposed an entire cycle of revolutionary festivals, to begin with the Festival of the Supreme Being. This latter was intended to celebrate a new civil religion as opposed to Christianity as it was to the atheism of the extreme dechristianizers (whose earlier Cult of Reason Robespierre and his associates had repudiated).
- ^ McGrath, Alister (2008). The Twilight Of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World. Random House. p. 45. ISBN 978-1407073767.
He was an active member of the faction that successfully campaigned for the atheistic ‘Cult of Reason’, which was officially proclaimed on November 10, 1793.
- ^ a b Doyle 1989, p. 389
- ^ Furet & Ozouf 1989, pp. 563–564
- ^ a b c Furet & Ozouf 1989, p. 564
- ^ Fremont-Barnes 2007, p. 237
- ^ McGowan 2012, p. 14
- ^ a b c d Kennedy 1989, p. 343
- ^ Carlyle 1838, p. 375
- ^ Kennedy 1989, p. 343: «The Festival of Reason … has come to symbolize the Parisian de-Christianization movement.»
- ^ Doyle 1989, p. 259: «Fouché declared in a manifesto… graveyards should exhibit no religious symbols, and at the gate of each would be an inscription proclaiming ‘Death is an eternal sleep’.»
- ^ Doyle 1989, p. 259: «[Fouché ] inaugurated a civic religion of his own devising with a ‘Feast of Brutus’ on 22 September at which he denounced ‘religious sophistry’.»
- ^ Palmer 1969, p. 119
- ^ «Reason, Cult of Goddess of». Encyclopedia.com. Retrieved 13 October 2018.
- ^ Kennedy 1989, p. 343: «A ‘beautiful woman’ was chosen to represent Reason and Liberty, rather than a statue, so that she would not become an idol.»
- ^ Scurr 1989, p. 267
- ^ Carlyle 1838, p. 379
- ^ Schama 1989, pp. 778–779
- ^ a b Schama 1989, p. 778
- ^ Kennedy 1989, p. 344: «The Festival of Reason in Notre Dame left no impression of rationality on the memories of contemporary observers…. [I]t was evident that the Festival of Reason was a scandal.»
- ^ Ozouf 1988, p. 100ff
- ^ Kennedy 1989, p. 344: «…tales of its raucousness may have contributed to Robespierre’s opposition to de-Christianization in December 1793.»
- ^ «War, Terror, and Resistance«. Center for History and New Media, George Mason University. Archived from the original on 16 August 2018. Retrieved 28 July 2012.
Sources[edit]
- Carlyle, Thomas (1838) [1837]. The French Revolution: A History. Vol. II. Boston, MA: Little & Brown. OCLC 559080788.
- Doyle, William (1989). The Oxford History of the French Revolution. Clarendon Press. ISBN 978-0-19-822781-6.
- Fremont-Barnes, Gregory (2007). Encyclopedia of the Age of Political Revolutions and New Ideologies, 1760–1815. Greenwood Press. ISBN 978-0-313-33445-0.
- Furet, François; Ozouf, Mona, eds. (1989). A Critical Dictionary of the French Revolution. Translated by Goldhammer, Arthur. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-17728-4.
- Goldstein, Morris (2007). Thus Religion Grows – The Story of Judaism. Pierides Press. ISBN 978-1-4067-7349-1.
- Kennedy, Emmet (1989). A Cultural History of the French Revolution. Yale University Press. ISBN 978-0-300-04426-3.
A Cultural History of the French Revolution.
- McGowan, Dale (2012). Voices of Unbelief: Documents from Atheists and Agnostics. ABC-CLIO. ISBN 9781598849790.
- Ozouf, Mona (1988). Festivals and the French Revolution. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-29884-2.
- Palmer, R.R. (1969) [1941]. Twelve Who Ruled. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691051192.
- Schama, Simon (1989). Citizens: A Chronicle of the French Revolution. New York: Vintage. ISBN 978-0679726104.
- Scurr, Ruth (1989). Fatal Purity: Robespierre and the French Revolution. Vintage. ISBN 9780099458982.
External links[edit]
Media related to Cult of Reason at Wikimedia Commons
Культ Разума — один из элементов процесса дехристианизации во время Французской революции. Создан эбертистами с намерением упразднить христианскую религию во Франции. Культ Разума получил широкое распространение в период 1793-94 гг. После издания коммуной Парижа 24 ноября 1793 года декрета о запрете католического богослужения и закрытии всех церквей, церкви в Париже стали превращать в Храмы Разума.
Итак, впервые «Разум» в полную силу объявил о себя в годы Французской революции. Остановимся ненадолго на мрачных страницах этого периода, ибо сценарий, прописанный на них, в дальнейшем будет раз за разом разыгрываться по всему миру лишь с некоторыми поправками на время и быт государств.
После ареста гражданина Людовика Капета, позже казнённого «за измену родине и узурпацию власти», в течение нескольких месяцев высшие революционные органы молодой Республики — Национальное собрание и Конвент, находившиеся под сильным влиянием и давлением разгоряченных народных масс, в ряде случаев были вынуждены выполнять непосредственные требования толпы восставших, окруживших здание Национального собрания.
Так под давлением протестующих власти были вынуждены свернуть либерализацию торговли, провести замораживание цен и заработной платы. Великая французская революция вынесла на улицы не только недовольный люд, но и атеизм с антиклерикализмом, которые до этого обитали в салонах. Попытка навязать «гражданское устройство духовенства» привела к волнениям и изгнанию многих священников из Франции. Хаотические политические события революционного Парижа привели к власти радикальных якобинцев, развернувших массовый террор, который их же и погубил. В то же самое время в атмосфере насильственной дехристианизации Франции был провозглашен «культ Разума».
Культ Разума получил широкое распространение в период 1793-94 годов. После Сентябрьских убийств и особенно после издания коммуной Парижа 24 ноября 1793 года декрета о запрете католического богослужения и закрытии всех церквей, церкви в Париже стали превращать в Храмы Разума.
В общем, и в целом это движение стремилось противопоставить то, что называлось тогда естественной религией – христианству, в частности католичеству. С французскими протестантами, являвшихся непримиримыми врагами французских католиков дела обстояли немного иначе. Когда они принесли свою скромную серебряную утварь, их приняли с учтивыми оговорками. Ни один пастор больше, однако, не счел себя обязанным отречься от своего учения. Идея обращения Франции в протестантство, по поводу которой впоследствии французский историк Эдгар Кинэ так жалел, что она не была осуществлена, ибо он видел в этом единственное действительное средство раскатоличения Франции, но идея эта была совершенно чужда как руководящим революционерам, так и народу. На развалинах христианства они хотели утвердить то, что философы называли естественной религией.
Культ Разума был почти повсюду деистическим (признающее существование Бога и сотворение Им мира, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений). В Париже, когда в нем участвовал народ, он носил веселый, радостный характер. Для многих он носил характер проказливой забавы. Многие города вслед за столицей молодой Республики присоединились к этому движению и поддержали культ. Особенно в этом выделился юго-восток, где благодаря эмиссарам Дартигуайта и Кавеньяка дехристианизаторское движение было особенно смелым, смелым вплоть до насилия. Так же имели место серьезные и искренние попытки упразднить старую религию и утвердить на ее месте рационалистический культ. Богинь разума почти повсюду там изображали не актрисы или работницы, а красивые молодые девушки, добродетельные и серьезные, принадлежавшие к цвету буржуазии.
Даже в самых захолустных и отдаленных коммунах многие церкви были превращены в храмы Разума, а сообщения и письма эмиссаров Конвента показывают, что дехристианизаторское движение захватило почти всю Францию, как деревенскую, так и городскую.
Этот культ Разума был одновременно и культом отечества, которое быстро заняло в этом культе преобладающее место. Бюсты философов в храмах были часто заменяемы или дополняемы бюстами Шалье, Ле-Пелетье, Марата, которые в воображении народа олицетворяли не определенное учение, а революционную Францию, которая борется с реакцией. Люди начали чтить, главным образом, этих трех мучеников патриотизма.
А пока что вновь перенесемся в неспокойную столицу. Внутри огромного собора Парижской богоматери последователи культа построили «величественный храм». На его фасаде была надпись «Философия», и у входа возвышались бюсты известных философов. В центре храма была построена искусственная скала, и на ее вершине горел факел — «светоч истины». В день праздника Свободы в храме оркестр исполнил специально сочиненный гимн на слова поэта Шенье.
Из храма народ вступил в зал заседания Конвента. Впереди шествия шли музыканты и молодые защитники отечества, певшие патриотический гимн. За ними в красных колпаках шли республиканцы. Затем — девушки в белых платьях с трехцветными лентами и венками. Они окружали женщину, олицетворяющую Разум. Она держала в руке пику и восседала на украшенном троне, который несли четверо мужчин.
Затем из храма выходила женщина в белом платье, голубом плаще и красном головном уборе. Это воплощение Свободы, перед которой преклоняются все республиканцы:
При виде этого шествия в Конвенте всех охватил восторг. Трон богини Разума поставили напротив председательского кресла. Склонившись перед богиней, один из членов Конвента выступил с антихристианской речью и просил Конвент переименовать кафедральный собор в храм Разума, на что Конвент согласился. После этого пропели гимн Свободе.
«Для изображения Свободы мы взяли, — говорил в своей речи Шометт, — не холодный камень, а безукоризнейшее произведение природы, и ее священный образ воспламенил все сердца».
Во всех церквах в Париже и в провинции отмечались такие же праздники. В Страсбурге над входом в собор была надпись: «Мрак отступает перед светом». Из собора была вынесена вся церковная утварь, внутри храма стояли статуи Природы и Свободы, по бокам которых помещались два Гения: один топтал разбитый королевский скипетр, другой держал пучок, связанный трехцветной лентой — символ союза департаментов Франции. Рядом стояло три чудовища, изображавших католического священника, протестантского пастора и еврейского раввина.
Через неделю после праздника Свободы и Разума в Конвенте была разыграна сцена «погребения религии». Несколько человек несли гроб, за которым шли «плакальщики».
В стране был запрещен колокольный звон, затем стали снимать колокола и на месте колоколов ставили статуи Свободы. Во многих городах и деревнях стали закрывать церкви. Но все эти принудительные меры не избавили народ от религиозного дурмана, и попытка ввести культ Разума не была борьбой с религией вообще, а только желанием ввести новую религию вместо существующей старой. И хотя католицизм был объявлен «ликвидированным», он в действительности продолжал существовать.
В Конвент поступали петиции из разных коммун с жалобами, что власти не спрашивали их мнения, перед тем как отменить религию, и что теперь коммуны решили ее снова восстановить, потому что люди не могут отречься от того, что впитали с молоком матери, и бессмысленно хоронить католический культ. В некоторых департаментах народ требовал открытия церквей. Рабочие жаловались, что с исчезновением христианских праздников не стало выходных дней.
Святой Доминик, сжигающий еретические книги. П. Берругете. Около 1500 г.
По мнению некоторых, культ Разума отличался не только отсутствием всякого фанатизма, но даже и всякой серьезности. Церемонии состояли в сатурналиях, целью которых было скорее развенчание христианства, чем создание каких-нибудь новых религиозных основ и догматов.
Господствующей нотой было осмеяние. Духовенство изображалось в самом смехотворном и даже отталкивающем виде, например, в клоунских колпаках или вооруженное кинжалами; исполнители смешивали обряды католической литургии с циничными выходками, уснащая их сквернословием; расхаживали в церковных облачениях, которыми накрывали также собак, козлов, свиней и, чаще всего, ослов, желая этим еще сильнее подчеркнуть свое грубое нечестие.
Но все же эти сатурналии не были простой потехой, а служили скорее выражением своего рода фанатизма, который и проявлялся именно в ожесточенных нападках на упраздненный культ. Орудием этих нападок служили насилие и насмешка, а доказательством того, что все-таки было какое-то стремление к учреждению нового учения, служат попытки к установлению священных обрядов и даже составление нового катехизиса.
Этот республиканский катехизис по своей форме рабски подражал католическому; он излагался тоже в вопросах и ответах, определяя по-своему республиканские таинства: крещения, причащения и миропомазания.
Нам известно, какова была судьба этой религии, не сумевшей никогда освободиться окончательно от преданий католицизма. Известна также и дальнейшая участь ее апостолов и последователей. Многие увидели, что этот культ с каждым днем все более удаляется от философии и переходит просто к грубому язычеству. Настала пора для иной метафизической концепции и появился в революционной Франции новый культ, культ «Верховного Существа»…
Санкюлотиды
«Санкюлотиды» — дополнительные дни календарного года. Для согласования длины календарного года с продолжительностью солнечного необходимо было в конце каждого простого года добавлять еще 5, а в високосном — 6 дней. Весь этот период с 17 по 22 сентября был назван в честь восставшего народа «санкюлотидами» объявлен нерабочим, и каждый из его дней посвящался особому празднику.
Первый день санкюлотид (17 сентября) был праздником Гения, во время которого восхвалялись выдающиеся победы человеческого ума: открытия и изобретения, сделанные за год в науках, искусствах и ремеслах.
Вторая санкюлотида (18 сентября) называлась праздником Труда и посвящалась героям труда.
Третья (19 сентября) отмечалась как праздник Подвигов. В этот день прославлялись проявления личного мужества и отваги.
Четвертая (20 сентября) была праздником Наград. Во время ее совершались церемонии публичного признания и национальной благодарности в отношении всех тех, кто был прославлен в предыдущие три дня.
Пятая санкюлотида (21 сентября) — праздник Мнения, веселый и грозный день общественной критики. Горе должностным лицам, если они не оправдают оказанного им доверия.
Шестая санкюлотида (22 сентября), отмечаемая только в високосные годы, называлась просто Санкюлотидой и посвящалась спортивным играм и состязаниям.
День взятия Бастилии (14 июля)
Единственный революционный праздник, сохранившийся до наших дней. Официально его стали праздновать лишь в конце 19 века, но впервые отметили уже в 1790 году под названием «Праздник Федерации».
Проходил он не на развалинах Бастилии, а на Марсовом поле, которое в то время находилось вне Парижа. Усилиями добровольцев его удалось полностью преобразить для праздника.
В начале праздника отслужил мессу епископ Талейран, после чего генерал Лафайет принес клятву верности конституции. За ним последовал король. После окончания официальной церемонии по всему Парижу начались народные гуляния, фейерверки и танцы.
В последующие революционные годы день падения Бастилии отмечали народными гуляниями, а потом с 1793 по 1803 вместо этого праздника отмечали «день Республики» 1-го вандемьера (22 сентября).
Наконец, в 1880 году день взятия Бастилии был вновь объявлен официальным национальным праздником.
День принятия Конституции
10 августа 1793 года – годовщина восстания на Марсовом поле, которое дало импульс к свержению монархии и день принятия Республиканской Конституции, написанной Эро де Сешелем и другими.
Публичная присяга Конституции состоялась на развалинах Бастилии. Как и многие другие сценарии революционных праздников, программа была придумана Давидом.
На развалинах Бастилии была сооружена статуя Природы, из груди которой бил фонтан.
Туда же пришли депутаты Конвента под предводительством председателя Эро де Сешеля.
Де Сешель набрал из фонтана у подножия статуи Природы воды и выпил первым, произнеся небольшую речь, его примеру последовали депутаты и делегаты из провинций.
Далее процессия прошла по парижским улицам до площади Революции, где была установлена статуя Свободы. Возле нее Эро де Сешель произнес вторую речь и присягнул на верность Конституции.
По окончании официальных церемоний на улицах города повсеместно были акрыты столы для общественных трапез, за которыми последовали танцы и песни до глубокой ночи.
Праздник Разума – 10 ноября 1793
Осенью 1793 года в стране развернулось движение дехристианизации, противопоставившее католическому культу культ Разума. В ноябре того же когда коммуна Парижа издала декрет о запрете католического богослужения и закрытии церквей. В них открывали «святилища Разума».
Праздник проходил одновременно во многих церквях, в которых было закрыто все, тчо напоминало о христианстве. Центральная церемония прошла в Соборе Парижской Богоматери.
В нем установили храм с надписью «философия», бюсты философов и зажгли «факел Истины».
Их «храма» вышли сперва девушки в белом, а потом – «Богиня Разума», олицетворявшая свободу и на самом деле бывшая актрисой. Такие же «богини» присутствовали на всех церемониях в других храмах и также были известными актрисами и куртизанками. Праздник закончился трапезами на городских улицах, танцами и гуляниями.
После праздника Конвент решил преобразовать Нотр-Дам де Партии в Храм Разума. Такие же празднества шли по всей стране. Они проходили в форме карнавалов с обязательным участием «богинь Разума», с принуждением священников публично отрекаться от церкви и сана после чего следовало краткое «богослужение» и все те же гуляния. Во многих селениях и департаментах жители протестовали против уничтожения католической религии, начались легкие волнения.
21 ноября 1793 года Робеспьер осудил действия дехристианизаторов. 6—7 декабря 1793 года Конвент официально осудил меры насилия, «противоречащие свободе культов». В марте 1794 года культ Разума был запрещён.
Праздник Верховного Существа — 8 июня 1794
Культ Верховного Существа утверждался властями в борьбе, во-первых, с христианством, а во-вторых, с Культом Разума. С идейной стороны культ Верховного Существа наследовал деизму Просвещения (Вольтер) и философским взглядам Руссо, допускавшего божественный промысел. Он опирался на понятия естественной религии и рационализма. Целью культа, включавшего также ряд праздников в честь республиканских добродетелей, было «развитие гражданственности и республиканской морали». Термин «Бог» избегался и заменялся на термин «Верховное Существо».
Ярым сторонником культа Верховного существа был Робеспьер, ставший и одним из инициаторов праздника. Цели у Робеспьера были, в основном политические.
Внутри страны в провинциях нарастало недовольство борьбой якобинцев с католической церковью, священниками и обрядами. Дехристианизация также играла Франции дурную службу на внешнеполитической арене, восстанавливая против нее не только европейских политиков, но и европейские народы.
Праздник Верховного существа должен был, с одной стороны, учредить новый главенствующий религиозный культ, схожий с католическим и призванный заменить его, а с другой стороны, показать, что Республика настроена миролюбиво по отношению к религии и прочим культам, существующим в стране и не является атеистическим государством. Таким образом, Робеспьер намеревался учредить новую главенствующую государственную религию.
В день праздника Робеспьер был избран председателем Конвента, и тем самым ему отводилось первое место в празднике, которым должен был руководить Конвент.
Праздничная церемония открылась речью Робеспьера.
После речи Робеспьера под музыку была сожжена «гидра атеизма». Чучела, изображавшие атеизм, символы честолюбия, эгоизма и гордыни, были сожжены Робеспьером, как первосвященником, или жрецом, а на их месте появилось изображение Мудрости. Затем Робеспьер произнес вторую речь, на этот раз против атеизма, который «короли хотели утвердить во Франции».
Этот пышный праздник был ошибкой Робеспьера. Его враги сочли, что Робеспьер перестал довольствоваться тем, что он глава политической власти, и стремился еще сделаться жрецом новой национальной церкви. Его стремление к неограниченной и единоличной власти отвратило от него все больше союзников.
Когда Робеспьер шел во главе процессии, депутаты Конвента перешептывались между собой, называя его «диктатором», что он прекрасно слышал, и вернулся с него в дурном расположении духа, по воспоминаниям современников.
Деревья Свободы
Праздник, не имевший точной календарной даты и проводившийся в провинциях вразнобой. Объединяла его лишь идея посадки «деревьев свободы» — традиция, очевидно унаследованная от «майских деревеьев» Бельтайна.
Как и в канун мая, участники торжества сажали живые деревья .или втыкали в землю длинный шест и украшали его цветами, венками, лентами и революционными эмблемами, а вокруг разворачивалось народное гуляние.
Такой обряд появился в январе 1790 г. в провинции Перигор, а затем широко распространился по всей Франции.
В Париже первое дерево свободы посажено в 1790 году, дерево торжественно увенчали красным колпаком и пели вокруг него революционные песни. Уже в мае 1790 года почти в каждой деревне был торжественно посажен молодой дубок как постоянное напоминание о свободе.
Мученики свободы
Как и в предыдущем случае, революционеры пытались дать старой традиции новый смысл. В частности, святым должны были прийти на смену «мученики свободы», а изображение Свободы могло соседствовать в жилищах рядом с изображением Девы Марии.
«Мучеников свободы» было трое: убитый Шарлоттой Корде в июле 1793 года Марат, убитый роялистом в январе 1793 года Лепелетье, и казненный в мятежном Лионе в июле того же года глава местных якобинцев Шалье.
Культ мучеников особенно усилился в разгар дехристианизации, когда с закрытием церквей на время было запрещено совершение католических обрядов. Обряды в честь «мучеников свободы» совершались с поистине религиозной пышностью, с торжественными кортежами и участием хоров.
Вместе с тем, подмена старых святых новыми сопровождалась дехристианизацией: на похоронах Шалье, чей пепел возложили на алтарь и поклонялись ему, как святыне, зажгли огромный костер, куда бросили Евангелие, жития святых, церковные облачения и утварь. По окончании церемонии бюст Шалье водрузили в церкви вместо разбитого изображения Христа.
Альфонс Олар
КУЛЬТ РАЗУМА и КУЛЬТ ВЕРХОВНОГО СУЩЕСТВА
ВО ВРЕМЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Перевод с французского Е.С.Коц и А.Н.Карасика
М.: Сеятель. 1925
Предисловие Якова Михайловича Захера
Из всех современных исследователей Великой Французской революции Альфонс Олар является, без всякого сомнения, наиболее авторитетным. Колоссальная эрудиция Олара по всем вопросам, так или иначе связанным с историей Французской Революции, стоит, таким образом, вне всякого сомнения, вследствие чего каждая написанная им строчка всегда достойна самого внимательного изучения.
Однако, Олар не только ученый, но и довольно заметный политический деятель. Олар не только защищает Революцию от нападок ее литературных критиков (этой цели посвящена его книга «Тэн как историк Французской Революции», убийственная для этого реакционного историка), но и стремится к осуществлению заветов великой буржуазной революции в современной ему Франции эпохи Третьей Республики. С начала 30-х г.г. он сотрудничает в газете Клемансо «La Justice», принимает участие в борьбе радикалов с клерикализмом и в стычках с всесильным в то время в академических кругах влиянием клерикальной и монархической реакции. Олару не раз приходится терпеть ожесточенные нападки со стороны своих коллег по педагогической и научной работе.
Научные взгляды Олара вполне соответствуют его политическим убеждениям. Будучи не столько идеалистом, сколько скорее тем, что можно назвать позитивистом, Олар, однако, чрезвычайно далек от материалистического взгляда на историю. Сравнительно мало интересуясь экономической историей (недаром его главный труд носит название «Политической истории Французской Революции»), Олар вместе с этим недооценивает и социальной истории.
Предлагаемая читателю книга посвящена одному из интереснейших моментов классовой борьбы 1793-1794 гг. — истории культов Разума и Верховного Существа.
При полной невозможности для широких русских читательских кругов ознакомиться не только с использованными Оларом архивными источниками, но даже и с теми документами, которые имеются в печатном виде, хотя и не переведены на русский язык, книга Олара является единственным и незаменимым пособием по одному из важнейших отделов истории революционной Франции в 1793-1794 гг. Фактический материал, содержащийся в предлагаемой книге, несомненно должен быть усвоен всеми, интересующимися историей Французской Революции, а оценить этот материал и сделать из него выводы, может быть, очень часто отличающиеся от тех, к которым приходит Олар — это уже дело самого читателя.
От автора (А.Олара)
Во II году Республики (1793 г.), как известно, революционная Франция сделала безуспешную попытку сперва упразднить христианскую религию посредством введения культа Разума, а потом заменить ее культом Верховного Существа.
Этот смелый замысел изумил и напугал Европу того времени, но он потерпел неудачу, и потому его объявили скандальным фактом, а не поучительным явлением; стало признаком хорошего тона представлять культ Разума и Верховного Существа как одну из самых вздорных нелепиц революционного безумия.
Но явились писатели, которые стали возражать против столь упрощенных суждений: одни из них склонны были видеть в антихристианском гебертизме лучшее воплощение идей Энциклопедии; другие признавали деизм сторонников Робеспьера религией, согласной и тогда и даже теперь с духом французской расы. Самый правдивый (если не самый точный) историк Революции Мишле полагал, что ни сухость, которою проникнут культ Разума, ни холод, которым веет от культа Верховного Существа, не могут быть родственны людям ХVIII века в их голове, наполненной идеями Дидро, в их сердце, влюбленном во Францию, зародилась новая религия, культ родины и человечества. Если бы дух этой религии, который, по словам Мишле, жил в тайниках народной души, проявился в политике его правителей, он оплодотворил бы Францию, воспитал бы народные чувства в истинно национальном духе и, быть может, озарил бы весь мир.
Проникновенное изучение Эдгара Кинэ привело его к совсем иным результатам. Этого мыслителя не оскорбляла нечестивость наших предков, и тем не менее он не мечтал о торжестве свободной мысли. Обвиняя деятелей Революции в чисто французской робости, едко высмеивая нерешительность этих рассудительных Полиевктов, которые оскорбляли догмат, но боялись уничтожить его или по настоящему изменить, Эд.Кине упрекает их в том, что они из самого христианства не почерпнули новой религии для современности. К какому же невысказанному выводу приводят его все эти блестящие насмешки над духовным рабством Гебера или Робеспьера? К тому, что им следовало ограничиться обращением Франции в протестантство!
Что же касается церковных писателей, из коих многие порассказали о противохристианском движении в некоторых областях Франции, от них нельзя требовать вдумчивого беспристрастия в таких вопросах, как нельзя его требовать и от памфлетистов враждебного им лагеря, которые и сейчас еще поспешно и слепо ищут в воспоминаниях эпохи Террора необходимое оружие в вечной борьбе между наукой и религией.
Таким образом, большинство историков ставят себе вопрос, в чем должны были быть религиозные дерзания Революции, а не стараются выяснить, чем они были в действительности, и таким образом они скорее судят, чем излагают события. Читали ли эти историки сотни брошюр того времени, где в форме отчетов, речей или поэтических произведений запечатлены столь забытые сейчас манифестации в честь Разума и Верховного Существа? Повидимому, они не заглядывали даже в наиболее известные архивы, если только не занимались областными исследованиями. Ни один из них не обрисовал в целом и на основании фактического материала это движение, одно из наиболее поучительных в истории Франции, да и всего человечества вообще. С другой стороны, это движение изучали изолированно, прибегая к рискованным отвлечениям, разобщая от условий, которые ему предшествовали, сопутствовали, которые, по нашему мнению, его породили. Из-за этого дехристианизаторы 1793 и 1794 гг. оказались теоретиками, которые использовались лишь случаем, чтобы применить на практике свои априорные взгляды.
Надеюсь, что этот исторический, чисто описательный очерк, составленный исключительно по документальным данным, покажет читателю, что и культ Разума, и культ Верховного Существа не были замыслами философского или религиозного характера, не имеющими корней в историческом прошлом Франции и тесной связи с событиями, что они не были насильственным вторжением в ход истории, но являлись необходимым и притом политическим следствием состояния войны, в которое вверг революцию старый режим своим сопротивлением против нового строя.
Кто прочтет эту работу, тот признает вместе с нами, что наши предки, возводя на трон в Соборе Парижской Богоматери богиню Разума, или прославляя на Марсовом поле бога Руссо, преследовали прежде всего чисто патриотические цели и в этих посягательствах против традиционной веры видели боевое оружие национальной обороны…
<…> Принято связывать культ Разума с предшествовавшим философским движением, о котором мы только что упомянули в нескольких словах. В Гебере видели сына Дидро, как в Робеспьере сына Жан-Жака. Различали в философии XVIII века две тенденции: одну натуралистическую и атеистическую, другую спиритуалистическую и деистскую. Эти две тенденции боролись во время революции, как они боролись и в теории. Сперва энциклопедисты оказались победителями: культ Разума. Потом они были побеждены и вытеснены спиритуалистами, учениками «Савойского викария»: культ Верховного Существа
С философской точки зрения эти взгляды нельзя назвать ошибочными, но им не хватает исторического обоснования, которое делало бы понятным, почему именно в этот момент и именно в такой форме оказался возможным опыт дехристианизации, за которым последовал немедленный поворот обратно к христианству.
Оба эти движения при надлежащем истолковании истории оказываются непосредственным следствием борьбы новой Франции против реакционной Европы.
Думать, что французский народ, кат одический в 1791 г., проникся через каких-нибудь два года, и благодаря прогрессу просвещения философскими идеями, — значило бы дать доказательство своей наивности.
Когда утверждают, что французы, взятые в массе, были католиками в начале революции, то этим не хотят сказать, что их вера не была поколеблена Вольтером и философами. В общем, буржуазия, знать и даже часть высшего духовенства смеялись над догмой. Высмеивали тайны, но не хотели отложиться от церкви — таково именно впечатление, которое получается при внимательном чтении наказов 1789 г. Хотели продолжать называть себя католиками; требовали добрых пастырей, которые были бы блюстителями морали, а не проповедниками догмата. Аббат Грегуар был идеальным кюрэ. Что касается крестьянина, то он оставался верен своим унаследованным привычкам. Он хотел только, чтобы его кюрэ, крестьянин, как и он сам, не был больше козлом отпущения для высшего, сановного духовенства. Вообще в крестьянине не было ни тени фанатизма.
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. Культ Разума и культ Верховного Существа у философов: Руссо, Вольтера, Рейналя, Дидро, Мабли, Монтескье, Тюрго
II. Предвестники культа Разума. Религиозные идеи Учредительного Собрания и Конвента
III. Первые шаги культа Разума Андре Дюмон в Аббевиле. Фуше и Шометт в Невере. Поведение Конвента и правительства. Первый случай дехристианизации: коммуна Риз-Opaнжи. Парижская Коммуна и якобинцы. Неудача идеи об отделении церкви от государства. Подготовка отречения Гобеля
IV. Заседание 17 брюмера II года
V. Праздник Разума в Соборе Парижской Богоматери. Поведение общественных властей
VI. Культ Разума в парижских секциях
VII. Культ Разума и философия. Статьи Салавилля
VIII. Культ Разума и отношение к нему парижского населения. Политические катехизисы
IX. Культ Разума в провинции
X. Попытки установить обрядность культа Разума
XI. Общая характеристика культа Разума
XII. Начало реакции против культа Разума
XIII. Выступление Робеспьера 1 фримера II года
XIV. Парижская Коммуна отступает. Поведение Дантона. Отречение Шометта
XV. Декрет о свободе культов и богослужения 16 фримера II года
XVI. Противодействие политике Робеспьера
XVII. Казнь Гебера, Дантона и Шометта
XVII. Предвестники культа Верховного Существа
XIX. Робеспьер и Жан-Жак Руссо
ХХ. Доклад Робеспьера и декрет 18 флореаля II года о Верховном Существе
XXI. Коммуна. Якобинцы и декрет 18 флореаля. Поведение Карно
XXII. Приготовления к празднику Верховного Существа и настроение общества
XXIII. Праздник Верховного Существа (20 прериаля II года)
XXIV. Последствия праздника Верховного Существа
XXV. Попытка ввести единообразие в культ Верховного Существа. Катехизисы и ритуалы
XXVI. Культ Верховного Существа в провинции. Стремление приноровить культ к католическому образцу. Стремление слить его с культом Разума. Продолжение дехристианизации
XXVII. Патриотизм и культ Верховного Существа
XXVIII. Культ Верховного Существа растворяется в патриотизме
XXIX. Революция 9 термидора и культ Верховного Существа
Культ Разума во времена Французской революции
автор неизвестен
Для определения умственного состояния общества в известную эпоху, необходимо прежде всего
изучить его религиозные воззрения и настроение, так как ни в чем характер народной массы
не отражается лучше, как в ее верованиях.
Если революция преследовала католицизм, то во всяком случае ошибочно думать, что она
совершала это в видах установления «свободомыслия». Неуспех культа «Разума» служит
для этого достаточно убедительным доказательством. Суть лишь в том, что с католическим
духовенством, как представителем реакции, неустанно велась ожесточенная борьба, а так как
конституция 1791 года не могла достичь его подчинения революции, то в дальнейшей борьбе
ей пришлось приступить уже к искоренению самого христианства. В этом надо, однако, все
же видеть скорее попытку заменить старую, подточенную в основании Вольтером и Руссо,
религию — новой, чем стремление к полному атеизму и уничтожению всякой идеи культа.
Вот анекдот, характеризующий настроение собраний, руководивших общественным мнением, и
его коноводов. На собрании какого-то революционного комитета был поднят вопрос о том,
следует ли упразднить или сохранить бога? Какой-то метафизик, возомнивший себя
новым Брутом, воскликнул: «Пора заменить этот призрак чем-нибудь более осязаемым. Я
предпочел бы видеть в наших храмах изображение Сцевол и Равальяков, чем образ бога, польза
которого для меня более чем сомнительна».
Под влиянием народных празднеств, заменивших церковные церемонии, в массе стал особенно
распространяться мистицизм. В памятные дни, когда всенародно прославлялась добродетель
какого-нибудь героя или торжество отвлеченного принципа, какая-то пророческая экзальтация
преображала этих людей, стремящихся всеми силами души к новым идеалам. Только вновь
нарождающиеся религии способны вызывать подобные возвышенные порывы.
Революция настолько постигала важное значение национальных торжеств, что превратила
их в государственные учреждения. По пословице, «у французов все кончается песней», и
во времена Законодательного собрания и Конвента все переводилось на празднества: «Федерации»,
«14 июля 1789 г.», «10 августа 1792 г.», «Падения королевства», «Основания Республики» и т.д.
Затем следуют величавые погребальные процессии в честь солдат Шатовье, Симоно, Эгампского
мэра, Лепелетье де Сен-Фаржо, Марата, Руссо, Гоша и т. д. Наконец, сюда же относятся и те
празднования, которыми Конвент хотел заменить католические праздники, и которые чествовали:
юность, брак, материнство, старость, весну, жатву, уборку винограда, бессмертные принципы,
поэзию, искусство и пр. и пр.
Конвенту были нужны символы. Двадцать веков религиозного атавизма угнетали душу его членов,
проникнутых не столько наукой, сколько метафизикой. А народ, еще менее свободный
от предрассудков, чем его представители, охотно обоготворял эти символы. Как глубоко
верны слова Вольтера, пущенные в ход Робеспьером: «Если бы бога не было, — его бы следовало
изобрести».
Христианское единобожие сменялось незаметно многообразным пантеизмом, в сущности, еще
более приближающимся к мистицизму, чем сама католическая догма.
Некоторые из национальных празднеств, как, например, праздник Федерации на Марсовом поле,
носили чисто религиозный характер. Впоследствии, когда католицизм стал открыто предметом
революционного преследования, эти празднества, хотя и сделались светскими, но тем не менее
сохранили присущий им мистический характер. Так, праздник 10-го августа 1793, учрежденный
в память падения королевского режима и названный праздником «Единства и нераздельности
республики», является самым типичным; в нем еще не появляется обрядов нового культа Разума,
но, однако, его организаторы, все-таки, как будто считают необходимым копировать древние
обряды церкви; до такой степени глубоко внедрились и в них и во всем народе любовь и
привычка к символизму.
Торжество Разума, отпразднованное в соборе Парижской богоматери представителями
Коммуны и всех департаментов Франции 20-го брюмера II года, в 10-ый день декады,
привлекло огромное стечение народа. Конвент, который первоначально относился к этой
манифестации неблагосклонно, не присутствовал на церемонии под предлогом того, что
имел в этот день заседание; но, однако, как только последнее окончилось, значительная
часть его членов отправилось в собор и здесь для них все торжество было повторено вновь.
Оно носило очень театральный характер. Посреди храма была воздвигнута гора, скрывавшая
церковные хоры. На вершине ее был устроен круглый портик в греческом стиле с надписью
на фасаде: «Философии»; с каждой стороны его украшали бюсты ее апостолов: Вольтера,
Руссо, Франклина и Монтескье.
На склоне горы пылал священный огонь Истины. Под звуки музыки две группы девушек,
в трехцветных поясах, увенчанные цветами и с факелами в руках, пересекают гору,
встречаются у алтаря, и каждая преклоняется перед божественным пламенем. Затем из храма
выходит женщина, олицетворенная красота, — в белом платье, голубом плаще и красном
головном уборе. Это воплощение Свободы, перед которой преклоняются все республиканцы:
Снизойди, дочь природы, — Свобода,
Пред тобою не раб, что был встарь;
Из обломков былого, руками народа,
Здесь воздвигнут тебе сей алтарь.
Торжествуйте, царей победители,
Низвергнувшие ложных богов,
И Свобода пусть в этой обители
Поселится на веки веков.
Богиню Свободы изображала госпожа Майльяр, самая красивая артистка парижской оперы. Она,
однако, вовсе не была почти нагой, одетой лишь в прозрачный газ, как это утверждала госпожа
Жанлис «Для изображения Свободы мы взяли, — говорил в своей речи Шометт, — не холодный
камень, а безукоризнейшее произведение природы, и ее священный образ воспламенил все
сердца». На другой день «Дядя Дюшен» в особой статье превозносил красоту богини, «окруженной
прекраснейшими грешницами оперы, которые, расставшись с предрассудками отжившей религии,
ангельскими голосами возносили к небу патриотические гимны».
Во многих парижских секциях были организованы подобные же торжества. Церкви были обращены
в храмы нового культа: Жюли Кандейль была богиней в Сен-Жерве, госпожа Обри в церкви
св. Евстахия, София Моморо в С.-Андре-Дезар. По странной иронии судьбы, семь лет спустя
та же Обри сломала себе руки и ноги, упав с колосников в оперном театре. София Моморо,
привлеченная вместе с мужем к процессу Эбера и его сообщников, познала в тюрьме Порт-Либр
все прелести республиканской «свободы» и была освобождена лишь 8-го прериаля, несколько
времени спустя после казни ее мужа, Моморо, Эбера, Шометта, Ронсена и др. Это была
прелестнейшая женщина, великолепно сложенная, с длинными, ниже пояса, черными волосами.
Она носила греческий античный костюм, фригийскую шапку, голубой плащ-пеплум и копье в руке.
Низверженным богиням вообще не повезло. Только одна, Майльяр, снизойдя с алтаря «Разума»
обратно на подмостки сцены, пожинала и затем вполне заслуженные артистические лавры.
Время от времени народ собирался в храмах и вместо обеден и служб слушал в них лекции
морали. Десятого фримера артисты театров Республики и Оперы священнодействовали в бывшей
приходской церкви св. Роха, посвященной ныне Философии. Все символы католицизма были изгнаны
из этого храма и заменены эмблемами Разума. Актер Монвель, пастырь новой религии, входил
на кафедру одетый в трехцветный стихарь. Его проповедь носила отпечаток чистейшего атеизма.
«Трудно постичь, — возвещал он, — чтобы существовал Творец, населивший земной шар жертвами,
обреченными пасть от его собственной мстительной руки». Между слушателями поднялись ропот
и протесты. «Мы с сожалением постигли, — говорит по этому поводу один из современников, — что
он совершенно не верил в бытие Верховного Существа, карающего или награждающего нас после
нашей смерти». Монвель однако вывернулся, перейдя тотчас в область политики. По его словам,
например, оказывалось, будто бы Мария-Антуанетта сожалела, что не могла искупаться в крови
всех французов!
В Сень-Этьен-дю-Мон, однажды, ради спасения своей жизни на кафедру выходил даже известный
астроном Лаланд. Он уже слышал, что на него последовал донос, и что, следовательно, ему
угрожает неминуемо скорый арест. Он является к президенту своей секции и последний предлагает
ему произнести в ближайшую же декаду республиканскую речь как доказательство своего
патриотизма. Астроном, в красной шапке на голове, говорил так блестяще и имел такой успех,
что при ближайших выборах Муниципального совета едва не удостоился чести попасть в его
члены. После этого ему уже нечего было более опасаться, и он мог спокойно вернуться к своим
небесным наблюдениям.
По мнению некоторых, культ Разума отличался не только отсутствием всякого фанатизма, но
даже и всякой серьезности. Церемонии состояли в сатурналиях, целью которых было скорее
развенчание христианства, чем создание каких-нибудь новых религиозных основ и догматов.
Господствующей нотой было осмеяние. Духовенство, но словам Грегуара, изображалось в самом
смехотворном и даже отталкивающем виде, например, в дурацких колпаках или вооруженное
кинжалами; исполнители смешивали обряды католической литургии с циничными выходками,
уснащая их сквернословием; расхаживали в церковных облачениях, которыми накрывали также
собак, козлов, свиней и, чаще всего, ослов, желая этим еще сильнее подчеркнуть свое
грубое нечестие.
Но все же эти сатурналии не были простой потехой, а служили скорее выражением своего рода
фанатизма, который и проявлялся именно в ожесточенных нападках на упраздненный культ.
Орудием этих нападок служили насилие и насмешка, а доказательством того, что все-таки было
какое-то стремление к учреждению нового учения, служат попытки к установлению священных
обрядов и даже составление нового катехизиса.
Этот республиканский катехизис по своей форме рабски подражал католическому; он излагался
тоже в вопросах и ответах, определяя по-своему республиканские таинства: крещения, причащения,
миропомазания и пр.
Один из сектантов составил для употребления в храмах Разума требник богослужений, другой
сочинил молитвы: «О свобода, дочь чистая небес, ради нас снисшедшая на землю, да будет
благословенно имя твое» и пр.; переделаны были даже Символ веры и заповеди; так, первый
начинался: «Верую в Высшее Существо, создавшее людей свободными и равными» и т.п., а
заповеди гласили: «Республике единой, нераздельной послужи» и т.д.
Известно, какова была судьба этой религии, не сумевшей никогда освободиться окончательно
от преданий католицизма; известна также и дальнейшая участь ее апостолов, которых неумолимая
политика Робеспьера в конце концов отправила всех на эшафот. Духовный сын Руссо скоро
увидел, что этот культ с каждым днем все более удаляется от философии «Савойского викария»
и переходит просто к грубому язычеству. Настала пора для иной метафизической концепции и
Робеспьер стал, наконец, сам первосвященником нового культа «Верховного Существа».
Свое учение, в духе Руссо, Робеспьер представил в знаменитом докладе Конвенту от
18 флореаля II республиканского года, изложив в нем и свои соображения о согласовании
религиозных идей с республиканскими принципами.
Революционный мистицизм питался и упивался новорелигиозными манифестациями в честь Разума и
Верховного Существа. Но он достигал до пределов полного безумия при похоронных обрядах.
Всякий француз, каковы бы ни были его убеждения, исповедует культ мертвых, а если последние
пали притом жертвами за народное дело, то он создает из них настоящих мучеников, героев,
достойных сыновней любви и вечной благодарности со стороны граждан.
Революция часто возвышала людей, накануне еще никому неизвестных, и которые становились
знаменитыми путем своего самопожертвования. Память солдат Шатовье была достойно почтена
благодаря Теруань де Мерикур, взявшей на себя инициативу устройства их погребальной
церемонии. Перенесение в Пантеон праха великих патриотов было каждый раз поводом для
взрыва мистического энтузиазма. Но ничто не может дать понятия о том исступленном
эпидемическом идолопоклонстве, которое вызвало убийство «друга народа» — Марата.
Конвент и Коммуна соперничали в усердии, с которым венчали «мученика» пальмами бессмертия.
Давиду, уже передавшему потомству «изображение Лепелетье, умирающего за отечество», было
поручено воздать разгневанной тени Марата такую же почесть. Скульптор Бовале был избран
Коммуной для снятия с лица покойника маски.
Кордельеры ходатайствовали о сохранении сердца «друга народа» в зале их клуба, а какой-то
гражданин предложил отправить набальзамированное тело покойника по всем департаментам
для возбуждения во всех истинно-республиканских душах любви к свободе!
Народ устроил своему «Другу» самые пышные похороны. Только останки Марата и Наполеона и
удостоились подобных почестей. Тело покойного лежало полуобнаженное, с открытой раной,
от которой он погиб; ребенок возлагал на его голову гражданский венец, держа в другой
руке зажженный факел. «Ладан клубился над прахом», и так двигалось в грозную бурную ночь,
при раскатах пушечной пальбы, вдоль темной Сены, местами красневшей от отблеска
колеблющегося света факелов, это огромное печальное шествие. За телом Марата несли его
ванну, в которой он погиб, за ней обрубок дерева с его письменным прибором.
Процессия медленно извивалась по набережным, мостам и улицам к Кордельерскому саду. Здесь
гроб был поставлен под тенистыми ветвями деревьев, и ораторы затянули монотонные и
напыщенные речи, прерываемые дефилированием секций, каждая при своих знаменах. Над могилой
был набросан курган из каменных глыб, в виде нагроможденных друг на друга утесов, с пещерой
под ними.
На этом, однако, дело не окончилось. Несколько дней спустя начались церемонии поклонения.
Сердце Марата было заключено в агатовый, осыпанный драгоценными камнями сосуд, самый
богатейший из всех, какой только могли найти в казенных складах, где хранились королевские
сокровища.
Возведенный в святые, Марат получил и свою особую иконографию. Эту посмертную популярность
разделили с ним две другие жертвы аристократии: Шалье и Лепелетье; их изображения чтились,
как образа. Вместе с портретами Бара и Виаля они составляли иконостас всякого доброго
республиканца.
Изображения их самих, равно как и различных эпизодов из их жизни украшали стены лавок и
салонов, палат и мансард; их носили даже в бутоньерках; маратовские ладанки, брелоки,
кольца и всякие иные украшения несколько лет не выходили из моды.
Война с римским католицизмом, с непокорным или с подчинившимся конституции духовенством,
одинаково остающимся, однако, верным союзником реакции, и наряду с этим — глубокая,
горячая вера в божество, как бы оно ни называлось: богом ли, Разумом ли или Верховным
Существом. Жадная потребность в культе, в литургических церемониях, в обоготворении
принципов и символов — вот, в общей сложности, вся религиозная политика революции.
Праздники французской революции
Особое место в
истории Нетрадиционного театра занимают
праздники Французской революции.
Хорошо известно
{и об этом уже было сказано), что цель
любой революции — изменение в стране
общественного и политического
устройства. Причем, как известно из
мировой истории, революция не всегда
ставит перед собой прогрессивные задачи.
Но все же цель подавляющего большинства
революций — свергнуть существующий в
стране общественный строй, перестроить
мир, избавиться от власть предержащих,
построить новую жизнь, в которой
непременно сбудется мечта человечества
о свободе. И эта мечта получит реальные
очертания.
Так вот, не вдаваясь
в подробности, именно общественное
настроение, стремление к объединению,
страстное желание народа во всеуслышание
высказать свои мысли и мечты, вера в
победу были той атмосферой, которой
жила Франция в дни Великой французской
революции 1789—1794 годов.
Дух победы,
необычайное воодушевление народа,
бурный рост самосознания, мятежный дух,
охвативший Францию того времени,
неудержимый всплеск эмоций вызвали к
жизни выплеснувшиеся на улицы и
площади страны грандиозные массовые
зрелища.
Само собой
разумеется, что революционные
преобразования, когда народ переживает
свой звездный час, находят отражение
во всех областях искусства. Ибо оно,
искусство, если хотите, является
чутким барометром гражданской и
политической жизни общества, вплоть
до ее мельчайших колебаний. Тем более
это проявилось во Франции конца XVIII
века, когда искусству вообще придавалось
огромное значение. Вот почему у меня не
вызывает удивления, что именно Великая
Французская революция вызвала к жизни
грандиозные, необычайно яркие зрелища,
отразившие идеи и мятежный дух эпохи,
и дала выход творческой энергии народа.
Кстати, забегая вперед, скажу, что
грандиозные массовые представления
первых лет революции в России тоже были
рождены революционными преобразованиями
Октября 1917 года.
Массовые народные
праздники Великой Французской революции
стали одной из важнейших сторон
общественной жизни республики. Огромное
значение имели праздники в политической
жизни страны. Они стали ее частью. Это
великолепно понимали якобинцы. Вот
почему в годы их правления именно Конвент
— в то время высший законодательный и
исполнительный орган первой Французской
революции — уделял праздникам особое
внимание.
С приходом якобинцев
к власти вся ее полнота была сосредоточена
в руках Комитета общественного спасения
и Комитета общественной безопасности.
Именно в это время, в июне 1793 года.
Конвент47
подтвердил дополнительную статью
конституции Франции, внесенную еще ее
Учредительным собранием в 1791 году,
в которой говорилось об установлении
национального празднества, «дабы
сохранить в памяти народа деяния
французской революции». Тогда же Конвент
принял декрет об учреждении народных
декадных празднеств, которые должны
были посвящаться: Республике, Народу,
Человеческому роду, Природе и Разуму.
Часто персонажами этих действ становились
аллегорические фигуры разных гениев.
Например, Гений войны, Гений мира, Гений
торговли и т.д.
Вообще, следует
заметить, что аллегорические образы
были одним из главных выразительных
средств празднеств Французской
революции. Так, например, Целомудрие
изображалось с венком на голове и
солнцем на груди, Независимость — с
пальмовыми ветвями в волосах и с
венком роз в руках. Сила — с дубовым
венком на голове и тяжелой дубиной в
руке, Честность — со старинным
законом, Справедливость — с весами в
руках, Истина была нагая женщина с
классическим зеркалом, Победа — с
венками, пальмовыми ветвями и литаврами…
Вожди революции,
понимая силу воздействия праздника на
народные массы, уделяли им значительное
внимание. Так, в 1792 году в Конвенте с
пламенной речью выступил Дантон. Основная
мысль его речи заключалась в том, что
«колыбель свободы» должна стать
центром празднеств, что именно они
(празднества), будут поддерживать
священную любовь к свободе и поднимать
«национальную энергию».
Кульминацией в
решении организаций празднеств стало
выступление на заседании Конвента
Робеспьера с докладом «Об отношениях
религиозных и нравственных идей к
республиканским принципам и о национальных
празднествах». В докладе говорилось:
«Разумная система национальных праздников
была бы одновременно самой образной
связью братства и самым могущественным
средством возрождения». В результате
по предложению Робеспьера Конвентом
было установлено девять народных
празднеств.
О том, что на всем
протяжении Великой Французской революции
праздникам придавалось огромное
значение, свидетельствует еще и
закрепленное Конвентом правило:
содержание праздников и их проведение
должно иметь разрешение революционной
власти. Мало того, во времена власти
якобинцев первоначальные планы
сценариев праздников разрабатывались
Комитетами общественного спасения
и народного образования, а затем
обсуждались и утверждались Конвентом,
и без его утверждения сценарий не мог
быть осуществлен. Конвент даже объявил
конкурс на лучший проект перестройки
здания Оперы в здание для проведения
национальных празднеств. Он же выпускал
специальные сообщения об использовании
площадей, на которых следует устраивать
эти празднества.
По дошедшим до нас
источникам можно говорить о том, что
вожди Французской революции прилагали
немало сил и энергии, чтобы эти праздники
способствовали развитию у народа чувства
красоты. Приглашались самые знаменитые
художники для создания эскизов
костюмов, декораций, всевозможных эмблем
и их воплощения. Вырабатывались планы
проведения самих представлений.
Естественно, что один из самых известных
художников, член Конвента гражданин
Луи Давид4‘,
принимал самое активное участие в этой
работе. Известен доклад знаменитого
художника «О декрете празднований», в
котором были тщательно разработаны
проекты различных празднеств, приуроченных
к знаменательным датам.
Смысл и характер
празднеств требовал огромных масштабов.
Для Давида улицы и площади Парижа были
важным компонентом массовых народных
празднеств. Думаю, что он о своем
творчестве мог бы сказать, как позже,
через многие годы, сказал В. В. Маяковский:
«Плошали — наши палитры!»
Правда, помимо
Давида лучшие поэты, музыканты, художники
Франции тех лет объединялись для создания
масштабных революционных празднеств.
Так, музыку для многих из них писал
живший в то время знаменитый композитор
Эрнст Модест Гретри. Для каждого
общественно значимого события сочинялись
не только музыка, но и соответствующие
стихотворения, гимны и т.п.
Вообще же зрелищная
сторона праздников Французской революции
была чрезвычайно внушительной,
торжественной и, говоря попросту,
отменно красивой.
Главной составляющей
праздников Французской революции были
торжественные шествия с обязательным
кульминационным действием, ради которого
оно и проводилось. Причем в отличие от
средневековых шествий в их основе лежало
тщательно разработанное непрерывное
действие с остановками у памятных мест.
Создавались эти,
отличавшиеся необычайной выдумкой
праздники (а в них принимали участие:
революционный народ, одетые в парадные
мундиры батальоны национальной гвардии,
сводные оркестры, хоры певчих и в особо
торжественных случаях — все члены
Конвента), по всем дошедшим до нас
источникам, специалистами. Собственно,
по сути, это были весьма одаренные,
опытные режиссеры.
Поначалу центром
всех праздничных действ были развалины
Бастилии, над которыми, выражая дух
победы, висела надпись: «Здесь танцуют!»
Действительно, с 14 июля 1789 года здесь
танцевали. Да еще как!
По моему разумению,
танец, как правило, выражает радость
человека по какому-либо значимому для
него событию и всегда связан с особым
состоянием его души. Думаю, я не ошибусь,
если скажу, что танцующий народ — есть
выражение его радости по поводу
совершенного им, будь это революция или
победа над врагом или другое радостное
общественно-историческое событие,
связанное с дальнейшей судьбой всего
народа.
Вот почему здесь,
на площади, среди развалин ненавистной
крепости, с утра до ночи танцевал народ
под звуки ставшей потом известной всему
миру знаменитой песни-танца «Са ира!»,
в которой звучали полные оптимизма
и веры в правоту свершившегося слова:
«Устроится! Аристократов на фонарь!
Пусть подохнут аристократы!» Потом
особой популярностью стала пользоваться
родившаяся в J792
году «Карманьола», в припеве которой
звучали слова: «Танцуйте Карманьолу!
Да здравствует звон, да здравствует
звон! Танцуйте Карманьолу, да здравствует
пушки звон!».
Дух победы, дух
праздника, обстановка чрезвычайного
народного воодушевления требовали
действенного эмоционального выражения.
И таким выражением стали массовые пред
ста вления-действа — зрелища Первой
Французской революции. С 14 июля J
790 года торжественно отмечалась каждая
ее годовщина.
Этот праздник
интересен еще и потому, что помимо
существующих многочисленных описаний
того, как они проходили (например Жана
Тьерсо), до нас дошли разработки плана,
сценарий и режиссерские заметки одного
из таких зрелищ, подготовленного и
осуществленного Луи Давидом на Марсовом
поле в Париже.
Интересно сравнить,
как задуманное автором будущее действо
потом воплотилось в жизнь.
Вот что можно
прочесть в плане (замысле), а затем в
режиссерском экземпляре4‘*
финала этого праздника: «Отцы,
которым
вторят сыновья, поют первую строфу: они
клянутся не сложить оружия, пока не
истребят врагов Республики; весь народ
повторяет выражение этих великих
чувств, третья и последняя строфа поется
всем народом. Все приходит в движение,
все волнуются: мужчины, женщины,
девушки, дети — все оглашают воздух
своими голосами… Громовой артиллерийский
залп, символ народного мщения,
воспламеняет мужество наших республиканцев;
он возвещает им, что наступил день
славы: мужественная и воинственная
песнь, предтеча победы, отвечает на
гром пушек. Все французы сливаются
душой в братском объятии: «Да здравствует
Республика!»
Вот то же место о
песне, но в режиссерском экземпляре:
«…Старцы и юноши, стоящие на горе Марсова
поля, споют первую строфу на мотив
«Марсельезы» и поклянутся вместе сложить
оружие лишь после того, как будут
уничтожены враги Республики. Все
мужчины, находящиеся на «Поле объединения»
и на помосте (2400 человек), хором
повторяют припев. Матери семейств и
молодые девушки, стоящие на Горе, споют
вторую строфу Все женщины, находящиеся
на «Поле объединения», хором повторяют
припев. Третью часть и последнюю строфу
поют все стоящие на Горе. Весь народ
хором повторяет последний припев и
т.д.»
Вообще, по
разрозненным, дошедшим до нас описаниям
праздников «Дня Революции» в различные
годы, нетрудно себе представить, как
именно 14 июля проходило это действо,
скажем, во времена того же Конвента.
На рассвете 14 июля
вышедшие на улицы города парижане
видели, что вся столица буквально
утопает в цветах. Это ночью за 20 лье в
окружности из многих деревень специальные
отряды свезли в город розы и другие
цветы и украсили ими парижские улицы,
дома, дворцы, площади. Когда же зазвонили
колокола всех соборов и барабаны по
всем кварталам пробили сбор, двинувшийся
к месту сборов народ превратил улицы
Парижа в живые цветочные реки — это
каждый гражданин столицы, неся в руках
букеты цветов, шел к местам сбора.
В 8 часов утра
раздавался грохот орудий — сигнал к
началу праздника. Собравшиеся в 48 секциях
граждане выстраивались в 48 процессий
и одновременно двигались со всех площадей
и улиц Парижа к Тюильриискому саду, где
должен был состояться Пролог праздника.
Пришедший народ
встречали 27 комиссаров и 50 якобинцев,
которым Конвент поручил организацию
этого праздника.
Всем собравшимся
опять раздавались цветы и вместе с ними
текст «Марсельезы», которую, как
задумывали устроители, народ будет
исполнять в финале праздника.
Посреди сада по
эскизам Давида была сооружена огромная
статуя Мудрости, укрытая до времени
черным покрывалом. С двух сторон ог
статуи возвышались амфитеатры. Правый
занял оркестр, на левом разместился
украшенный венками и трехцветными
лентами, в белых платьях сводный женский
хор. Повсюду были развешаны надписи,
по мнению очевидца, «утешительные для
народа, грозные для деспотов».
В 12 часов пополудни
на балконе дворца появлялся весь
Конвент. Робеспьер произносил короткую
речь, после которой оркестр и сводный
хор исполнили кантату «Взятие Бастилии».
В кантате, впервые сочиненной не на
религиозный сюжет из Библии (автором
слов и музыки был Антонин Дезожье), велся
рассказ о взятии Бастилии.
Под звуки набата
Гражданин-корифей вдохновенной арией
призывал народ к борьбе, так как считал
его достойным свободы. После воинственной
фразы, пропетой солистами и подхваченной
всем народом, под звуки исполняемого
оркестром военного марша изображалось
«взятие Бастилии». Гремели пушки. Трубы
звали в атаку. Под неистовствующие звуки
оркестра наступал конец сражения.
Народ и корифей произносили последнюю
фразу, взятую из книги Юлифи: «Враги
наши обращены в бегство. Они не смогли
противостоять и будут заклеймены среди
народов Народы, хвалите бога». После
этого призыва все пели «Тэ Деум» (Тебя,
Боже, хвалим!)511.
Пел хор, гремел
оркестр. Затем Робеспьер, подойдя к
символическому монументу, поджигал
черное покрывало, и тогда перед
народом открывалась величественная
статуя Мудрости…
Когда же Проло!
заканчивался, народ направлялся к
Марсову полю, где должна была состояться
официальная часть праздника и где
задолго до прихода процессии собравшиеся
парижане в ожидании шествия, несмотря
на проливной дождь, танцевали, веселились,
пели национальные песни
Марсово поле было
основным местом действия праздника.
Собственно, здесь проходила самая
величественная часть праздника. На
поле, превращенном в гигантскую арену,
которое в режиссерском экземпляре
Давида названо «Поле объединения», в
его центре, на огромном квадратном
постаменте, окруженном со всех ею сторон
широкими ступенями, ведущими на открытую
площадку, был сооружен «Алтарь Отечества».
На боковых сторонах постамента,
украшенных античными барельефами,
выделялись слова: «Народ. Закон.
Отечество. Конституция». Здесь же, на
поле, в его глубине, были построены
огромный помост для представителей
власти — «Гора», декорированная голубыми
и белыми полотнищами, и специальные
подмостки для сводных военных оркестров
и хоров, а также установки для орудий
Под грохот барабанов
на Марсовом поле появлялось шествие
Впереди шел весь Конвент во главе с
Робеспьером. А перед ними — огромный
(715 человек) сводный духовой оркестр.
Придя на Марсово
поле, Конвент поднимался на вершину
«Горы», а на крутых ее склонах размещалось
несколько тысяч участников сводного
хора, которым разделялся на две колонны:
в одной — женщины, в другой — мужчины.
Таким образом весь Париж превращался
в огромный хор, который в финале вступал
в действие В это же время подмостки
занимал уже упомянутый нами сводный
духовой оркестр. Вокруг подножия «Горы»
располагались батальоны Национальной
гвардии.
Но вот наступал
самый торжественный момент праздника;
«Клятва верности Республике, Революции».
Ее провозглашал кто-либо из политических
деятелей Республики.
«На «Алтарь
Отечества», — вспоминал Жан Тьерсо, —
поднимался
командующий национальной гвардии Мари
Жозеф Лафай-ет и, подняв вверх руку,
произносил от имени всех войск присягу
на верность Республике. Войска повторяют
присягу. Все это вызывает бурное
одобрение собравшихся. Развеваются
знамена, трещат барабаны, восторженные
крики народа смешиваются с громом
салютующей артиллерии».
К цитируемому
можно добавить, что после произнесения
клятвы гигантский хор и сводный
оркестр пели «Марсельезу», каждая
музыкальная фраза последнего куплета
заканчивалась артиллерийским залпом.
Композитор Гретри по этому поводу как-то
сказал: «Революция родила музыку с
пушечными выстрелами».
Нетрудно увидеть,
что в этом празднике ярко проявилась
одна из самых важных и сегодня задач
режиссера массового зрелища, массового
представления: задуманные неудержимой
фантазией автора-постановшика и
конкретизированные в режиссерском
экземпляре идея, тема, содержание,
выраженные затем в самом действии и
пластическом решении постановки,
слились, сплавились воедино в
грандиозном зрелище.
Надо полагать (это
и сегодня весьма важно для режиссера
массового представления), что в успехе
праздника немалую роль сыграл
организационный талант художника.
Помимо праздников,
посвященных годовщинам Революции, в
это же время возник целый ряд новых
праздников. Так, например, в 1792 году
на Марсовом поле состоялся «праздник
Свободы», в котором вместе с гражданами
Парижа принимали участие огромный хор
и сводный оркестр национальной гвардии.
В финале этого праздника, когда
«Колесница Свободы» объезжала «Алтарь
Отечества», весь народ с пением «Са
ира!» и «Карманьолы» пускался в пляс.
Юавгуста 1793 года (в годовщину ареста
Людовика) состоялся «праздник единства
и неразделенности Республики». В
этом же году был проведен «праздник
Возрождения и Возродившейся Природы».
На «поле Свободы»
— так парижане назвали бывшую площадь
Бастилии — на ее развалинах, был воздвигнут
«Родник Возрождения» — колоссальная
статуя женщины в костюме Изиды, которая
сидела между двумя львами. Из грудей
богини фонтанами били струи воды —
символ неисчерпаемой плодовитости
природы (автор Л. Давид). Этот праздник
начинался на рассвете нового дня. В
момент появления первого луча солнца
в исполнении сводного хора и оркестра
начинал звучать «Гимн Природе», (сочинение
Гос-сска)4,
по окончанию которого происходило
символическое омовение у «Родника
Возрождения». После чего бой барабанов
и звуки труб приветствовали появление
на площади 86 комиссаров департаментов
Франции. Гремели оркестры, читались
стихи о свободе, раздавались пушечные
салюты. Затем народ во главе с членами
Конвента, несшими огромную книгу
Конституции, с пением «Марсельезы»
шли к статуе Свободы на площади Революции.
Любопытно, что во главе этой процессии
шагал санкюлот с трехцветным знаменем
в руках.
Вообще, в праздниках
Французской революции часто использовались
не только аллегорические образы, но и
овеществленные символы таких понятий,
как Любовь, Верность, Чувствительность,
Сострадание, Единодушие и т.п.
Особый интерес
представляет октябрьский праздник 1793
года «в честь Разума», или, как его еще
называли, «Триумф Вольтера».
Праздник этот
начинался в Соборе Парижской Богоматери,
где красавица мадмуазель Майлард,
артистка Оперы, исполняла роль Богини
Разума. Для этого в соборе устроили гору
с троном на ней. Появлялась Богиня Разума
вся в белом, с распущенными чудесными
волосами, в красной якобинской шапочке
и с пикой в руке. Затем севшую на трон
Богиню поднимали молодые девушки и,
выйдя из собора, проносили по всему
городу. Красочное шествие с
аллегорическими фигурами, изображающими
Жизнь, Труд, Науку, Свет, направлялось
на одну из центральных площадей, где
была воздвигнута огромная фигура,
олицетворяющая Разум и скрытая до
поры до времени от глаз народа черным
покрывалом. Кульминацией праздничного
шествия был момент сожжения покрывала5-,
олицетворяющий рождение Разума из мрака
и огня.
Замечу, что праздники
в честь Разума проводились во многих
городах Франции. И везде роль богини
исполняли особенно красивые молодые
девушки.
Продолжая размышлять
о Театре массовых форм, Нетрадиционном
театре, понимаешь, что праздники
Французской революции сыграли
значительную роль в его развитии. Более
того, то, что родилось в этих праздниках
в области драматургии, режиссуры,
организации и проведения, естественно,
обогащаясь, не только дожило до наших
дней, но и является основополагающим в
режиссуре современных праздников и
массовых представлений.
Так, именно праздники
Французской революции, главным содержанием
которых при всем их многообразии был
лозунг: «Свобода, Равенство, Братство»,
положили начало революционному
искусству, в котором четко проявляется
политическая направленность, рожденная
как результат народных манифестаций
по случаю выдающихся политических
событий или важнейших общественных,
имеющих государственное значение дат.
Собственно, в этих праздниках впервые
тесно сплелись воедино искусство и
политика, официальная
и народная
линии.
Данная особенность
праздников Французской революции имела
не только теоретическое, но и практическое
значение. Дело в том, что глобальные
темы, являясь основой содержания этих
действ, потребовали новых средств
выразительности. Это были и образное
решение содержания, и использование
аллегорических образов и символических
фигур, и манифестации и шествия, и
многотысячные хоры и военные оркестры,
и группы трубачей и барабанщиков как
элементы действия, и войсковые соединения
революционной армии, пушки, пиротехника,
а главное — такое построение действия,
которое предполагало вовлечение в него
весь народ. Пожалуй, впервые главным
героем праздника становится народ.
Именно в это время
при постановке праздника начинается
тщательная разработка постановщиком
динамики массового действа, которая
ярче всего может быть выражена в широком
сценическом пространстве простора
городских площадей под открытым
небом.
И еще, праздникам
Французской революции, их проведению
придавалось, в частности Конвентом,
такое значение, что сценарий праздника,
как правило, утверждался на высшем
государственном уровне.
Немаловажным
является и то, что к созданию праздника
привлекались выдающиеся литераторы,
постановщики, художники, композиторы
того времени.
Перечисленные
мною особенности праздников Французской
революции и то, что они внесли в дальнейшее
развитие Нетрадиционного театра,
позволяют говорить об особом значении
этих праздников в истории массовых форм
театра, в частности, массовых
представлений. Не случайно Ромен Роллан
как-то сказал: «Плодотворной оригинальности
в них (праздниках) больше, чем во всем
французском театре XVIII
века». Позволю себе добавить: именно
Французская революция вернула Театр
туда, где он родился, — на площадь.
Кстати, если заглянуть на много лет
вперед, в XX
век, то мы увидим, что то же самое произошло
и в России, в октябре 1917 года. Театр снова
вернулся на площадь. Более того, в первые
послереволюционные юды именно площади
стали основными площадками, на которых
разворачивалось «действие необычайное».
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА.
XIX
БЕК
Дальнейшая судьба
Театра массовых форм, Нетрадиционного
театра, была непростой.
Как известно, XIX
век, особенно его конец, в Западной
Европе знаменателен тем, что в этом
столетии произошли качественные
изменения в жизни общества. Быстрое
развитие промышленности, успехи
естествознания и других наук, а главное,
распространившееся скептическое
отношение к надеждам на всеобщее
социальное равенство и совершенствование
человеческого обшества, нарастание
противоречий между буржуазией и
пролетариатом и рост освободительного
движения не могли не сказаться на
культуре и искусстве века XIX.
Естественно, что
и в театральном искусстве того времени
отразилось разочарование передового
общества результатом буржуазной
революции.
Поскольку в XIX
веке бурно развивающийся традиционный
театр прошел путь сначала от сломавшего
каноны классицизма в первой половине
века’1,
затем — через реализм буржуазной
семей-но-бытовой драмы в середине века’4
и усиление в конце века идейно-содержательного
начала, выведшего на сцену все слои
общества и поставившего важнейшие
проблемы современной жизни55,
к символизму на стыке веков, то и
Нетрадиционный театр не мог не испытать,
и несомненно испытывал, огромное влияние
происходящих событий в обществе, и,
конечно, изменений, происходящих в
традиционном театре. В свою очередь, и
последний не мог не испытывать влияния
Театра массовых форм. В частности,
возник интерес традиционного театра
к созданию в спектаклях действенных
массовых сцен, придающих масштабность
происходящим на сцене событиям,
стремление к верной исторической
обстановке и соответствующему
оформлению и костюмам.
Спектакли под
открытым небом
Вторая половина
XIX
века в истории Нетрадиционного театра
отмечена рождением новых форм
представлений. Например, спектаклями
иод открытым небом.
Следует заметить,
что это пошедшее в историю сценического
искусства определение, по моему мнению,
не очень точное. Если разбираться по
существу, то эта формула, хотим мы этого
или не хотим, объединяет два во многом
разнящихся сценических действа:
«массовое представление» и «спектакль».
И это нетрудно доказать.
Спектакль — это
произведение сценического искусства,
создаваемое актерским коллективом.
В основе любого спектакля лежит пьеса,
сюжет которой не только составляет
содержание сценического действия, но
и так или иначе развивается всеми
действующими лицами пьесы. (Отсюда
постановка спектакля начинается с
выбора пьесы, сюжет которой, помимо
всего другого, определяется
возможностями данной труппы.)
Так вот, если с
этой позиции рассматривать историю
европейского Нетрадиционного театра
в XIX
веке, то нетрудно заметить, что спектакли
под открытым небом16
есть новая грань в истории массовых
форм театра, обогатившая Нетрадиционный
театр, но ни в коем случае не заменившая
праздники, а тем более массовые
представления. В дальнейшем мы увидим,
что XX
век вообще обогатил Нетрадиционный
театр многими новыми формами. Правда,
в большей степени это касается жизни
Нетрадиционного театра России после
октября 1917 года .
И все же основной
формой Нетрадиционного театра являлись,
и сегодня являются, праздники и массовые
предегавлении. Представление в моем
понимании — это вид сценического
искусства, в основе которого лежит
особая драматургия. Ее содержание, как
правило, определяется каким-либо реальным
событием, чаще всего историческим, или
какой-либо календарной датой. Форма
этой драматургии — сценарий.
Поскольку в
следующих главах «Размышлений» подробно
рассматриваются особенности «массового
представления», и в частности его
драматургии, позволю себе в этой главе
ограничиться сказанным. Причем мне
представляется, что именно они (массовые
представления) с наибольшей полнотой
и более точно выражают суть массовых
форм театра, суть Нетрадиционного
театра.
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА.
XX
БЕК
Массовые
представления
Одним из ранних
дошедшим до нас упоминаний о таком
массовом представлении, автором
которого был Ф. Годе, а-композитором
— Ж. Любер и в котором принимало участие
600 актеров и 500 статистов, было представление
под открытым небом, посвященное
годовщине Невшательской республики
(Швейцария).
Известно, что такие
представления ставились в городах
Базеле, Шафхаузене, Балле. О характере
этих швейцарских действ еще в 1903 году
в книге «Народный театр» рассказывал
Ромен Роллам: «В Швейцарии, — писал он,
— устраиваются драматические
представления на открытом воздухе
с участием тысяч граждан, одушевленных
любовью к своей маленькой родине…
Традиции этих праздников поддерживаются
в Швейцарии уже в течение многих веков.
В годовщины великих национальных
событий, в годовщины независимости
кантонов города соперничают между
собой, устраивая торжественно и пышно
представления; благодаря этому
соперничеству создались народные
празднества, единственные в своем роде»
«.
В июле 1903 года
французский актер, режиссер и театральный
деятель Фирмен Жемье осуществил в
Лозанне постановку массового
представления, в котором на сценической
площадке величиной в 600 квадратных
метров участвовали кавалерия, пехота
и 2500 исполнителей. Он же, стремясь
осуществить свою заветную мечту о
подлинно народном театре, 11 ноября 1920
года в Париже, у Триумфальной арки,
в День погребения праха Неизвестного
солдата поставил массовое представление,
в котором символически отражались
основные вехи истории Франции.
Помимо Швейцарии
такие массовые представления ставились
в Италии: в Пизе, Сиене, Лукке.
Неменьшее
распространение массовые представления
получили в послевоенной Германии.
В 20-е годы, а точнее
весной 1925 года, немецкий режиссер Эрвин
Пискатор осуществил в Ганзейских горах
постановку массового действа
своеобразного историко-политического
обозрения по сценарию Гасбара с музыкой
композитора Майзеля, посвященного
основным революционным моментам в
истории человечества от Спартака до
Октябрьской революции. «Мы задумали,
-писал Пискатор, — осуществить эту
постановку в грандиозном масштабе.
Предполагалось 2000 исполнителей, огромные
прожекторы должны были освещать
похожую на арену котловину, а для
характеристики определенных комплексов
были сделаны большие, символически
увеличенные аксессуары (например, для
характеристики английского империализма
намечался броненосец 20 метров длиной)»
>*.
В эти же годы Эрвин
Пискатор создает политические
агитационные представления-обозрения,
в драматургическую гкань которых
режиссер вводил комментирующие действие
хоры, цирковые аттракционы, «герлс»,
кинокадры и т.д. По свидетельству
современников, это были чрезвычайно
яркие зрелища.
Любопытно, что
после Второй мировой войны наибольший
интерес вызывают массовые представления,
которые проводились не в Европе, а в
Африке. Так, в 1966 году в Дакаре, столице
Сенегала, в двух километрах от города,
на острове Горе, бывшем центре работорговли,
где до сих пор сохранились страшные
казематы, состоялось многодневное
массовое представление. В нем в
многожанровых картинах-эпизодах
развертывалась история Сенегала от
начала колонизации до провозглашения
независимости. По сути же. это был рассказ
об истории всех негритянских народов.
Автором сценария этого массового
представлении был известный гаитянский
писатель Жан Бриер, а постановщиком —
выдающийся французский кинорежиссер
Жан Мазель.
Хотя в одной из
книг можно прочесть, что Нетрадиционный
театр в XX
веке вообще никак себя не проявил,
поскольку «с Французской революции не
существовало общественно-исторических
предпосылок», позволим себе с этим не
согласиться. А как же быть с тем, что
именно в XX
веке Нетрадиционный театр обогатился
новыми формами?
Ведь именно на
рубеже веков в Европе возникла такая
форма сценического действия — об этом
мы уже упоминали. — как спектакли
под открытым небом, которые в XX
веке фактически стали основной формой
Нетрадиционного театра на Западе.
Поначалу спектакли
под открытым небом возникли в Италии.
Чуть позже такие спектакли стали ставить
в Англии, Австрии, Германии, Финляндии
и других странах. Ставят их и сегодня.
Надо полагать, что
они появились в результате стремления
передовой режиссуры того времени
вырваться из стен сценической коробки,
которая, несомненно, ограничивала их
творческие возможности, сковывала
их фантазию. Думаю, что поиск возможностей
воплощения этого желания закономерно
привел, не мог не привести, режиссеров
к потребности вывести театр на площадь.
Так, еще в начале
XX
века, в 1908
году, выдающийся английский режиссер,
художник и теоретик театра Гордон Грэг
открыл во Флоренции недалеко от Римских
ворот экспериментальный театр под
открытым небом «Арена Гольдони», которым
руководил вплоть до 1917 года.
Конечно, дело не
в том, что просто сменились размеры
сценической площадки и, как правило,
натура стала основным принципом
сценографии таких спектаклей. Главное,
почему можно относить спектакли под
открытым небом к одной из форм
Нетрадиционного театра, это то, что
в них режиссеры и исполнители использовали
выразительные средства, присущие
массовым действам, а именно: другой
принцип мизансценирования, в частности:
укрупненные, предельно выразительные
мизансцены, использование крупного
плана и т.д.; другой, рассчитанный на
огромную аудиторию актерский посыл,
крупный, точно отобранный выразительный
жест и т.д.; значительное количество
участников массовых сцен (порой за
счет непрофессиональных исполнителей);
введение по ходу спектакля в сценическое
действие воинских частей, кавалерии,
техники и т.д. (в зависимости от сюжета
пьесы), использование пиротехники и
других эффектов.
Стремление
выдающегося немецкого режиссера Макса
Рейн-харда к спектаклю как массовому
действу началось воплощаться еще в 1912
году, когда он ставил спектакли в огромном
лондонском «Олимпийском» зале. В
одном из осуществленных им спектакле
участвовало 2000 статистов и 240 музыкантов.
Это же привело его в 1920 году к созданию
в Зальцбурге «Театра под открытым небом»
и учреждению ежегодного летнего
фестиваля, в котором он сам принимал
активное участие, поставив несколько
интереснейших спектаклей. В том числе
спектакль на площади перед зальцбургским
собором: средневековую мистерию «Каждый
человек». Фестиваль в Зальцбурге
стал традиционным. Но он не был
единственным.
XX
БЕК. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
После Второй
мировой войны вплоть до сегодняшнего
дня театральные фестивали под открытым
небом проводятся во многих городах
Европы. На Авиньонском фестивале
(Франция) в 1950-х годах в Арле, в сохранившемся
до наших дней средневековом амфитеатре,
кинорежиссер Жан Ренуар поставил «Юлия
Цезаря» Шекспира. На том же Авиньонском
фестивале, во дворце Папского замка,
режиссер Жан Вилар осуществил
постановки «Сида» Корнеля, «Макбета»
Шекспира, «Лорензаччо» Мюссе. А в 1971
году Питер Брук, создавший Международный
центр театральных исследований, с
труппой актеров, в которую входили
актеры разных стран мира, осуществил
в Иране, на развалинах древненерсидского
города Персеполя, спектакль под открытым
небом «Оргахост», построенный на
мифах о Прометее и на «Персах» Эсхила.
С труппой своего Центра Питер Брук
поставил спектакль по древнеперсидской
поэме «Совещание птиц». Этот спектакль,
который играли на площадях, видели
зрители Африки и США.
Спектакли под
открытым небом игрались и у стен старинной
крепости в Дубровниках (Югославия), и
на площади перед старинным готическим
собором с высокими башнями в Сегеде
(Венгрия), и на расположенном посреди
Дуная острове Маргарет в Будапеште
(Венгрия), и в других городах Западной
Европы. На этих фестивалях собравшаяся
из разных стран многотысячная аудитория
могла увидеть постановки «Макбета»,
«Юлия Цезаря», «Сна в летнюю ночь»
Шекспира, услышать «Трубадура» Верди,
«Банк-Бан» Эркеля, «Принцессу Турандот»
Пуччини, «Цыганского барона» Штрауса,
«Кармен» Бизе и многие другие драматические
и оперные спектакли в исполнении лучших
театральных коллективов мира.
Например, грандиозные оперные
спектакли-представления под открытым
небом, осуществленные в конце XX
века театром «Арена ди Верона» в
Италии, в том числе и знаменитая
постановка оперы Д. Верди «Набуко»
(дирижер Д. Опен).
После войны
своеобразный спектакль под открытым
небом был поставлен в Египте у знаменитых
пирамид. Название спектакля «Звук и
свет» очень точно раскрывало его форму,
содержание и то, какими средствами он
был осуществлен. Именно это зрелище
явилось родоначальником таких спектаклей
во многих городах и странах. С полным
основанием можно считать, что с появлением
этого спектакля родилась еще одна, уже
современная, форма Нетрадиционного
театра.
Продолжая разговор
о рожденных в XX
веке новых формах Нетрадиционного
театра, нельзя не обратить внимания на
такое интересное, весьма специфическое
явление, как Уличные театры.
Уличные театры
Но судя по
существующим немногочисленным источникам
и тем спектаклям, которые довелось
видеть автору, назвать эти действа
спектаклями в привычном для нас понимании
весьма трудно. Несмотря на все их
своеобразие, это были пусть особые, но
все же уличные представления.
Во-первых, это были
политические выступления молодежи,
находящейся в оппозиции к правящему
классу и официальному буржуазному
искусству, как действенный протест,
облаченные в театральное эмоциональное
действо.
Во-вторых, основой,
существом таких представлений была
импровизация в буквальном понимании
этого слова.
В-третьих, в своих
выступлениях уличные театры скорее
всего под влиянием Мейерхольда,
Брехта, Пискатора и других выдающихся
театральных деятелей XX
века использовали множество оригинальных
находок, прежде всего в области
представлений на открытом воздухе, и
по-своему трансформировали целый ряд
театральных приемов и выразительных
средств. Собственно, в их выступлениях
можно было увидеть и буффонаду, и острый
гротеск, и символические и аллегорические
действа, и образные пластические
мизансцены, и приемы мюзик-холла, и
телевизионных шоу, и кинематографа и
т.д. Широко использовались куклы, маски,
ходули, необычная музыка и всевозможные
шумы.
При всей сложности
пересказывать такое действо, предоставим
слово известному русскому режиссеру
А.Д. Силину: «…Раздаются мерные глухие
удары барабана, — рассказывает Анатолий
Дмитриевич об одном из спектаклей
известного Нью-Йоркского уличного
театра «Брэд энд паппет» («Хлеб и кукла»
). — Сквозь толпу продирается на
первый план лохматый и бородатый парень
в цилиндре, хламиде и с барабаном. Это
руководитель театра, актер и режиссер,
прекрасный скульптор — Питер Шуманн.
— Сейчас, —
говорит он
спокойно, — за два с половиной часа мы
вам покажем всю историю человечества,
весь Ветхий и Новый Завет, от сотворения
мира и до распятия Христа.
Начинается спектакль
«Крик людей о пище». — Это Бог-отец и
Бог-мать, — говорит Шуманн, и на холм
медленно выплывают две огромные,
величественные фигуры. Это куклы высотой
по 8 метров, по размеру приближающиеся
к высоте трехэтажного дома… Каждую
такую куклу ведут на шестах несколько
исполнителей… Куклы сходятся в центре,
степенно кланяются друг другу,
обнимаются и начинают очень медленно
и ритуально танцевать, а Шуман на
игрушечном рояле играет старинный
сентиментальный вальс «Свидание с
Вашингтоном на мосту». Но вот появляется
бог времени — Хронос. Эта кукла целиком
надета на человека… В руках у нее — два
огромных меча. «Кончилось ваше время»,
— как бы свидетельствует Хронос и
убивает мечами двух великих богов…
Смерть решается просто. Кто-то из актеров,
забравшись на стремянку, снимает с
Бога-отца громадную голову и швыряет
ее вниз. Остальные ловят голову на кусок
красной материи, подбрасывают ее
вверх к небу, снова ловят и пляшут от
счастья, что вот наконец-то покончено
с тиранией богов, теперь будет полная
свобода и демократия. В это время другие
актеры вывозят на тачках несколько
мешков мусора, хватают его охапками и
швыряют вверх. Клочки тряпок и бумаг,
обрезки газет и пленки кружатся и порхают
в воздухе, как снег во время пурги, вмиг
заволакивают весь холм непроницаемой
пеленой, сугробами лежат на траве.
Наступил Хаос. Когда это «конфетти XX
века» медленно оседает и туман
рассеивается, зрителей невольно
охватывает жуть. На вершине холма лежит
груда чудовищ, у них рыло, как у свиньи.
а уши и клыки — волчьи. Это каждый актер
налел себе налицо маску, еще две взял в
руки, и все легли друг на друга. И вот
эта фантасмагорическая «куча мала»
приходит в движение. Вперед на зрителей
медленно ползет, копошась и извиваясь,
сплетаясь в немыслимый змеиный
клубок, апокалипсическое страшилище
со ста двадцатью оскаленными хищными
харями. Вот чудовищная груда остановилась
на краю холма, смотрит на людей… Пауза…
Затем внутри кучи начинается какое-то
шевеление, она распадается, и из массы
монстров выкарабкивается очень красивый
обнаженный юноша. За ним на свет божий
вылезает такая же девушка. Это Адам и
Ева. Но по моде нашего века… оба они с
ног до головы запеленаты в целлофан
и заклеены липкой лентой… Затем юноша
становится перед девушкой на колени и
зубами сдираете нее упаковку, потом
она помогает ему вылупиться из «кокона»,
и вот они стоят уже молодые, невинные,
взявшись за руки.
«И родился Человек»,
— торжественно провозглашает Шу-манн.
— {Это первые слова, звучащие после
пролога). И сказал Господь: «Отныне все,
что движется, будет для тебя пищей!…»
И после паузы совершенно иным тоном
добавляет: «И люди начали пожирать
друг друга!»
Адам и Ева кидаются
на чудовищ, распихивают их ногами,
сдирают с них маски… Начинается
кровавая библейская история человечества…
В это же время… на заднем плане стоит
актриса, монотонно читая в мегафон
письмо вьетнамской женщины президенту
Джонсону (подлинный документ, опубликованный
в газете)…
Еще один эпизод.
Актеры выносят на вершину холма дверь
с крупной надписью «Рай». В нее проходят
«нищие» и «страждущие», «мученики»
и «угнетенные», «борющиеся» и «чистые
сердцем». Это актеры и куклы, большие
и маленькие. Они в костюмах кубинских
повстанцев и вьетнамских партизан… Но
вот появляется огромная кукла в
цилиндре, с сигарой в руке и американским
флагом за ухом. Шуманн фамильярно хлопает
куклу по плечу и представляет публике
— «Никсон». «Никсон» тоже пытается
пройти в «рай», но сбегаются все
актеры, наваливаются на дверь, кричат,
свистят, улюлюкают — не пускают. Тогда
«Никсон» садится на землю и плачет.
Шуманн вытирает ему слезы и сопли
американским флагом и разводит руками:
ничего, мол, не поделаешь, сам виноват…»59
Цитату можно было
бы продолжить, но и приведенного
достаточно, чтобы отчетливо представить
себе форму и содержание спектаклей
уличных театров, которые в середине
1960-х и начале 1970-х годов широко
распространились в США и Западной
Европе.
Его новаторство
было обусловлено, во-первых, политическим
агитационным содержанием, что, естественно,
не могло не сказаться на жанровых
особенностях. По своей сути это был
синтез: с одной стороны, буффонада,
балаган, фарс, шутовские, порой скабрезные
приемы ярмарочного действа, с другой —
спектакль-митинг, марш протеста,
политический скетч. Во-вторых, условиями,
в которых проходили их выступления
и которые оказывали влияние на их форму.
Прежде всего, это место действия —
шумная, с интенсивным непрекращающимся
движением улица, со стоящими вокруг
выступающих случайными прохожими.
В-третьих, ограниченность материальных
средств, вопиющая, требовавшая жесточайшей
экономии бедность театра. И все это
притом, что условия выступлений требовали
предельной выразительности.
Звук и свет
Одной из интереснейших
форм Нетрадиционного театра в последней
четверти XX
века, как я уже отмечал, были спектакли
«Звук и свет». Наиболее яркое проявление
особенностей такого действа, пожалуй,
было представление «Звук и свет»,
разыгрываемое у пирамиды Хеопса в
Гизе.йГ|
Итак, испытывая
огромное влияние традиционного театра,
в котором произошли в XX
веке значительные качественные изменения
и режиссура утвердилась как самостоятельное
искусство. Нетрадиционный театр именно
в это же время обогатился новыми формами,
рожденными желанием передовой режиссуры
вырваться из тесных стен сценической
коробки и использовать ,иш воплощения
задуманного новые выразительные
средства.
Поэтому нет ничего
удивительного в том, что и традиционный
театр многое взял из арсенала массовых
представлений.
В частности, многие
выразительные средства, присущие
некоторым формам Нетрадиционного
театра. Например, из представлений «Звук
и свет». Но в свою очередь и Нетрадиционный
театр XX
века испытывал значительное влияние
традиционного театра.
XX
век в истории Нетрадиционного театра
знаменателен еще и приходом в него
выдающихся, получивших мировое признание
режиссеров, таких, как Крег, Рейнхард,
Пискатор, Брехт, Вилар, Брук и другие.
Следует сказать,
что и в постановочных группах массовых
представлений происходит определенная
профессионализация. Более того, именно
в последней четверти XX
века постановщиками многих массовых
представлений становятся профессиональные
театральные режиссеры.
СПЕКТАКПН-ЗРЕПНША
Пожалуй, наиболее
ярким событием в жизни Нетрадиционного
театра конца XX
века, а точнее 80-х годов этого века, стали
постановки выдающегося режиссера кино
и театра Робера Оссеина. Осуществленные
им на огромных сценических площадках
спектакли-зрелища имели ошеломляющий
успех. И это неудивительно. Именно
Оссеину принадлежит заслуга вписать
новую страницу в историю мирового
Нетрадиционного театра.
В своих знаменитых
действах-спектаклях режиссер сумел
сплавить воедино с драматической тканью
сценария элементы эстрады и балета,
кинематографа и цирка вкупе с последними
техническими открытиями в области
света и звука. Собственно, именно эти
режиссерско-авторские новации и были
тем новым в истории не только для
Нетрадиционного театра, но и театра
вообще, что позволило говорить об
особом «оссейновском языке»,
«ос-сейнографии».
Весьма любопытно
и очень характерно, что спектакли-зрелища
Робера Оссеина не воспринимаются
зрителями как некие суперзрелища и
тем более не как дань шоу-бизнесу. Скорее
его постановки — это своеобразный
синтез массового представления с
театральным зрелищем.
Следует заметить,
что постановки Робера Оссеина
принципиально отличаются от спектаклей
под открытым небом, о которых мы только
что говорили. И дело не в том, что
постановки Оссеина идут в закрытых
помещениях.
В спектаклях под
открытым небом чаще всего с используются
в качестве основного оформления
архитектурные или природные особенности
места, где проходит спектакль, или
спектакль переносится вто место, в
котором происходит действие пьесы, с
добавлением нужных деталей оформления
и, как правило, увеличенным числом
статистов. Так это было при постановке
«Кармен» на Се-гедском театральном
фестивале, так это было с «Иваном
Сусаниным» во внутреннем дворе
Ипатьевского монастыря в Костроме, так
это было с «Кармен» в Зеленом театре
ЦПКиО им. Горького в Москве, «Снегурочкой»
Островского в Щелыкове, «Вей, ветерок»
Яниса Райниса в ленинградском парке
культуры и отдыха (о последних разговор
дальше).
Спектакли-зрелища
Робера Оссеина ставились каждый раз по
специально созданным сценариям, в основе
которых лежало то или другое историческое
событие,»1
или на основе сюжета той или другой
пьесы или романа известного писателя.
Еще одно немаловажное
отличие, о котором уже упоминалось: его
спектакли-зрелища идут на огромных
площадках закрытых помещений со
всеми элементами массового представления
и всех достижений современной
сценической техники.
Обратившись к
историческим событиям, Робер Оссеин
создал грандиозное представление —
историческую сюиту «Броненосец Потемкин»
о легендарном подвиге русских матросов,
осуществленное в Парижском Дворце
спорта.
О главной мысли
своего спектакля, о его идее режиссер
говорил, что он ставил его «ради идеи
братства, человеческого достоинства.
Она объединила русских моряков, чтобы
не жить на коленях».
Пока шел спектакль,
ежедневно более 50 тысяч зрителей следили
за развертывающимся действом па огромном
макете броненосца, сооруженном на
арене Парижского Дворца спорта. Нечего
и говорить, что зрелище это имело у
зрителей ошеломляющий успех.
Такой же успех
имела постановка самого грандиозного
представления, посвященного 200-летию
падения Бастилии, «Свобода или смерть»
в парижском Дворце Конгрессов. Помимо
огромных массовых сцен в этом
спектакле-зрелище действовало 85
персонажей.
Репетировалось
это представление пять месяцев, а на
его постановку было затрачено 50
миллионов франков. Пожалуй, наиболее
точно существо этого зрелиша определил
критик парижской газеты «Пари матч»,
назвав это удивительное представление
«фресками революции».
Истории французского
сопротивления, его событиям был посвящено
представление «Ночью — свобода».
Не меньшим успехом
пользовалась драматическая эпопея «Имя
его — Иисус»
о земной жизни сына Божьего, рассказ о
котором вели евангелисты Матфей,
Марк, Лука, Иоанн. Представление это
было осуществлено на арене Дворца спорта
у Версальских ворот.
Во всех представлениях
— а в их числе были такие, как «Собор
Парижской Богоматери», «Отверженные»,
«Дантон и Робеспьер» по В. Гюго, «Юлий
Цезарь» по Шекспиру, «По ком звонит
колокол» по Э. Хеменгуэю и другие —
для Оссеина
было особо важной «только историческая
правда». Кстати, это утверждение
режиссера позволяет нам считать, что
мы, по сути, имеем дело со своеобразным
массовым театром, кредо которого очень
точно выразил сам режиссер-постановщик:
«Прежде всего я освобождаю идею. Только
историческая правда! Во-вторых, несу ее
к зрителям на крыльях музыки, света,
пластики, кино. Это не прием, а способ
возвыситься до уровня идеи» «ч
Я не случайно
столько внимания уделил творчеству
Робера Оссеина, ибо считаю, что жанр
«массовый театр» — есть одно из важнейших
направлений развития Нетрадиционного
театра в наши дни, форма Нетрадиционного
театра.
Если подытожить
сказанное о возникших в XX
веке новых формах Нетрадиционного
театра, без сомнения, можно говорить,
что утверждение некоторых исследователей
— мол, XX
век не оставил большого следа в
истории Нетрадиционного театра —
принципиально ошибочное. Да, массовые
представления в какой-то мере утратили
свои ведущие позиции, да, они перестали
быть основной формой европейского
Нетрадиционного театра. В то же время
некоторые массовые представления,
став традиционными, проводились и
проводятся в различных странах и городах
Западной Европы.63
Более того, пройдя сложный путь, они не
только дожили до наших дней, но и стали
весьма распространенной формой
Нетрадиционного театра.
В России же в первое
десятилетие после 1917 года Нетрадиционный
театр вообще занял ведущее место в
культурной жизни страны.
Конечно, одной из
основных ведущих форм Нетрадиционного
театра в Западной Европе прошлого XX
века стали различные праздники:
государственные, церковные; праздники,
посвященные тем или другим важным
историческим событиям в жизни страны,
и, конечно, грандиозные, чрезвычайно
популярные карнавалы, прежде всего
всемирно известный бразильский карнавал
Кадр из фильма «Повторный брак» (1971) с неподражаемым Бельмондо в главной роли. А вот так в нем выглядела «Богиня Разума»
«Культ спящей головы был открытым для всех, – это было главным орудием силы и власти, но смысл, внутреннее содержание культа, … хранили в величайшей тайне. Они выращивали зерно мудрости Земзе, и были ещё в самом начале того пути, который привёл к гибели всю расу».
«Аэлита» А. Толстой
Трудная история человечества. В двух предшествующих материалах мы рассказали о ранних попытках переформатирования сознания больших масс людей. Причем, не о всех. Тем не менее, выбранные примеры очень показательны, причем особенно показателен пример с преследованием ведьм. Причем продолжалось оно даже в XVIII веке. Так, в Шотландии последняя ведьма Дженни Хорн была сожжена на костре в 1727 году, но уже через девять лет после её смерти в Шотландии охоту на ведьм отменили. А «самая последняя ведьма в Европе» Анна Гельди была казнена так и вовсе 13 июня 1782 г. Дело было в Швейцарии, вызвало международный скандал. Но тут уж надо понимать, что в какой-то степени охота на ведьм именно в этой стране шла с особым размахом: в XV-XVIII веках швейцарцами было казнено в 10 раз больше ведьм, чем во Франции и даже вдвое больше, чем в Германии (разумеется пропорционально численности населения этих стран). Там имело место около 5 000 ведовских процессов, причем 3 500 «ведьм» были приговорены к смертной казни. Но сегодня речь пойдет о другом, а именно о переформатировании Бога в Верховное Существо в католической Франции, имевшее там место в годы Великой Французской буржуазной революции.
Кадр из фильма «Анна Гельди – последняя ведьма» (1991)
«Энциклопедия» как угроза существующему строю
«С большой горечью мы вынуждены сказать это; нечего скрывать от себя, что имеется определённая программа, что составилось общество для поддержания материализма, уничтожения религии, внушения неповиновения и порчи для нравов.»
Постановление Генерального Совета 1758 года
И тем не менее, это был уже век Просвещения, когда большинство людей стали чувствовать и даже говорить, прямо как в сказке Н. Носова: «И все доступно уж, эх-ма! Теперь для нашего ума!» Люди все больше верили в человеческий разум, 1 июля 1751 года во Франции был напечатан первый том первой в мире «Энциклопедии», ставшей по сути дела триумфом эпохи Просвещения. Всего было подготовлено 28 томов «Энциклопедии» и 11 томов с иллюстрациями, печатавшимися 21 год (1751–1772). В них было 71 818 статей и 3129 гравюр, исполненных Робером Бенаром. С «Энциклопедией» сотрудничали такие просветители, как Вольтер и Монтескьё, Гольбах и Гельвеций, Жан Жак Руссо, а ещё Бюффон, Кондорсе и др.
Вот он: первый том первой французской «Энциклопедии», первой таковой книги эпохи Просвещения, одного из крупнейших справочных изданий XVIII века, которое, как считается, подготовило почву для Великой французской революции
Целью издания было преодоление заскорузлой консервативной идеологии, распространение в обществе рационального мировоззрения и научного подхода к толкованию явлений в природе и обществе, борьбу против клерикализма. И… все эти цели удалось достичь, и в той же Франции дело в итоге закончилось великим разрывом с феодальными порядками прошлого, который вылился в Великую французскую буржуазную революцию.
Портрет д’Аламбера – одного из редакторов «Энциклопедии» работы М. К. де Латура (1704–1788), 1753 г. Лувр
В поисках нового божества
«Человек есть владыка мира. Ему подчинены стихии и движение. Он управляет ими силой, исходящей из его тела, подобно тому, как луч света исходит из отверстия глиняного сосуда».
«Аэлита» А. Толстой
Ну, а когда революция во Франции в целом победила, переформатированием сознания народных масс новые власти занялись уже по-настоящему! Религия реформировалась самым радикальным образом, даже более радикальным, чем это сделали в своё время протестанты. Место Бога во Франции занял культ Верховного Существа, который утверждался новыми властями с целью борьбы с христианством и прежде всего с традиционным для большинства французов католицизмом (и представлял собой часть процесса дехристианизации). Параллельно с этим данный культ был антитезой рационалистическому «культу Разума», за который в свою очередь выступали конкурирующие группировки революционных верхов.
Портрет Дени Дидро работы Луи-Мишеля ван Лоо (1707–1771), 1767 г. Лувр
Культ Верховного Существа воспринял деизму Просвещения и следовал во многом философским взглядам Руссо, который много сил положил на разработку идеи естественной религии. Очень важно, что новый культ включал ряд праздников в честь новых республиканских добродетелей и должен был способствовать «развитию гражданственности и республиканской морали». Ну и, кроме того, о чем не говорили вслух, но все «верхние» это понимали, что пока народ поет и танцует (а ещё сыт и пьян!), он худого против правительства затевать не может!
Для начала термин «Бог» рекомендовалось использовать ограниченно, а заменять его термином «Верховное Существо». Технология, отработанная уже в годы реформы Эхнатона. Причем данный термин философы и публицисты использовали и до революции, вкладывая в него самое разное содержание (в том числе и в отношении католицизма). Причем, он был включён даже в авторитетную «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 г.: каковые права были утверждены Национальным собранием не просто так, а «перед лицом и под покровительством Верховного Существа». В новом тексте «Декларации», который ввели в 1793 году якобинцы, как и раньше речь идёт о наличии в мире Верховного Существа.
Праздник Верховного Существа 8 июня 1794 г. на Марсовом поле в Париже. Пьер Демаш (1723–1807). Музей Карнавалет
Праздник Верховного Существа 8 июня 1794 г. на Марсовом поле в Париже. Раскрашенная гравюра
«Культ Разума» против культа «Верховного Существа»
«В человеке дремлет самая могучая из мировых сил, — материя чистого разума. Подобно тому, как стрела, натянутая тетивой, направленная верной рукой, поражает цель, — так и материя дремлющего разума может быть напряжена тетивой воли, направлена рукой знания. Сила устремлённого знания безгранична».
«Аэлита» А. Толстой
Однако с культом Верховного Существа во Франции было не все так гладко, как того хотелось. Ему стал противостоять «культ Разума», который пропагандировали левые радикалы во главе с Пьером Гаспаром Шометом, лидером полной дехристианизации Франции, стоявшим на рационалистических позициях. Он даже свое имя Гаспар изменил на Анаксагор. И хотя сам он впоследствии и был казнён как заговорщик, идеи его отнюдь не умерли. Христианские храмы массово закрывались (особенно с ноября 1793 г.), их достояние было разграблено, а сами они объявлялись «храмами Разума». Теперь в них проводились праздники в честь «Богини Разума», которую почитали за честь изображать театральные актрисы и… знатные дамы, демонстрировавшие таким образом свой переход на сторону народа. Интересно, что на юге Франции организатором таких праздников был… Жозеф Фуше, ставший потом наполеоновским префектом полиции. Причем сначала устраивалось праздничное шествие, а затем… публичная казнь преступников.
Гаспар Шомет
Внедрение культа в последние месяцы Робеспьера
Господа демократы, вы знали примеры,
Когда ваши коллеги учинили террор:
Истребили цвет нации мечом Робеспьера,
И Париж по сей день отмывает позор.
«Господа-демократы» Игорь Тальков
На культ Разума и одновременно культ Верховного Существа ориентировались наиболее влиятельные из якобинцев во главе с Робеспьером. Но надо было выбирать что-то одно, и в марте 1794 г. наиболее радикальные якобинцы с Эбером и Шометом во главе были казнены, а культ Разума попросту запретили. Сам Робеспьер правил после этого недолго, но последовательно внедрял во Франции культ Верховного Существа. Так, например, под его давлением 7 мая 1794 г. Национальный конвент принял очередную декларацию, в которой объявлялось, что «французский народ признаёт существование Верховного Существа и бессмертие души». Далее в ней было написано: «Он признает, что достойное поклонение Верховному Существу есть исполнение человеческих обязанностей. Во главе этих обязанностей он ставит ненависть к неверию и тирании, наказание изменников и тиранов, помощь несчастным, уважение к слабым, защиту угнетённых, оказание ближнему всевозможного добра и избежание всякого зла». Наконец 8 июня 1794 г. в Париже прошел первый публичный праздник Верховного Существа, на котором с речью выступил сам Робеспьер. По сути это означало новую государственную религию, полный разрыв с идеями Революции и отмену постулата о свободе совести. Все это ещё больше усилило в обществе недовольство Робеспьером. Ну, а кончилось все это, как известно, 9-ым термидора и казнью самого Робеспьера…
«9 термидора» Аррье Фульшран Жан (1765–1835), 1805 г. Музей Карнавалет
После Девятого термидора культ Верховного Существа, который во Франции ассоциировался в глазах общественного мнения с диктатурой Робеспьера, быстро сошёл на нет. И никто о нем не пожалел, ну разве что театральные актрисы. Вот так ничем закончилась ещё одна из попыток переформатирования сознания. А вот эта надпись на фронтоне собора в Клермон-Ферране осталась: «Французский народ признаёт Верховное Существо и бессмертие души». Её заштукатурили, но в ходе реставрации штукатурку удалили, и она стала видна. Кстати, а как сам-то народ принял все эти «перемены»? А очень спокойно, хотя Вандея и восстала вся. Но там причины были другие, хотя церковь активно участвовала в восстании… Но даже вся Вандея — не вся Франция. Отчасти восстания в Бретани и также в Нормандии объясняются более поздним их присоединением к Франции и крепкой католической верой их населения. И до нынешнего времени здесь сохраняются прокатолические и монархические взгляды, совершенно необычные для современной секуляризированной Франции. Но тем не менее, все-таки борьбы за веру в то время как таковой там не было, и уж тем более никто не вступился за культы Разума и Верховного Существа!
Продолжение следует…