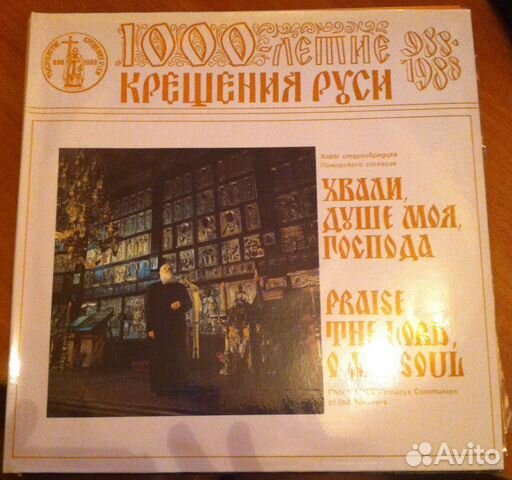- Главная
- Разделы журнала
- Исторические факты
- Исторические события июня: «Как праздновали тысячелетие крещения Руси»
Исторические события июня: «Как праздновали тысячелетие крещения Руси»
— 6.06.2022
— 6.06.2022
Как праздновали тысячелетие крещения Руси
5 июня 1988 года исполнялось тысячелетие крещения Руси. Самое удивительное, что хотя официально СССР считался атеистическим государством, а религия с 1920-х годов не имела значимого политического и общественного веса, тем не менее, внутрицерковный праздник прошёл при полной поддержке властей и стал общественно значимым событием.
Считается, что на Советский Союз оказала серьёзное влияние XXIV сессия Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшаяся в ноябре 1987 года, которая приняла решение отпраздновать 1000-летие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой культуре. Ну и, соответственно, Советскому Союзу никак нельзя было остаться в стороне…
При желании, в эту сентенцию можно поверить, НО… Разумеется, мнение этой почтенной организации было в СССР учтено, однако решение о масштабных празднованиях тысячелетия крещения Руси было принято советским правительством ещё в 1980 году! И началась серьёзная подготовка к празднованию.
Прежде всего, в мае 1983 года церкви был возвращён комплекс бывшего Данилова монастыря. В журнале Московской Патриархии № 8 за 1983 год было отмечено посещение 17 мая патриархом Пименом и сопровождавшими его лицами председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР Владимира Куроедова, который сообщил иерархам, что правительство СССР приняло решение возвратить Данилов монастырь «для создания в нём и на прилегающем участке Административного центра Московского Патриархата; разрешено также строительство новых служебных помещений на этой территории». Наместником возрождающейся обители был назначен архимандрит Евлогий (Смирнов), эконом Троице-Сергиевой Лавры.
Монастырь восстанавливался как духовный и административный центр РПЦ, и в 1987 году основные работы по реконструкции комплекса были завершены.
В том же году на территории РСФСР Церкви было передано 6 храмов, а уже в следующем — 89 храмов и обителей, 7 монастырей, Козельская Введенская Оптина пустынь (Калуга) и Толгский монастырь (Ярославль), возвращены часть построек Киево-Печерской лавры, а также были переданы мощи, находившиеся на хранении в государственных музеях Московского Кремля.
Всё говорило о том, что барьеры между Церковью и обществом, которые на протяжении 70 лет советской власти формировались государственной идеологией (религия — «опиум для народа»), стали постепенно разрушаться.
В средствах массовой информации, в том числе и зарубежных, широко освещались встречи церковных иерархов с руководством страны. Стали появляться серьёзные научные аналитические публикации, посвященные вопросам веры и религии и их роли в отечественной истории. Так, например, в 1988 году, в преддверии юбилея Крещения Руси, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» выпустило книгу «Падение Перуна. Становление христианства на Руси», написанную доктором исторических наук, профессором МГПИ имени В. И. Ленина Аполлоном Кузьминым. Книга вышла тиражом 150000 экземпляров и была мгновенно раскуплена.
Фактически провозглашённая в Конституции СССР свобода вероисповедания стала не формальностью, а реальностью.
В июне 1988 года в Москву съехались иерархи всех православных церквей. Масштабные торжества проходили в Москве, Киеве, ряде других городов с 5 по 12 июня, что широко транслировались по телевидению. Тогда же прошёл Поместный Собор в Троице-Сергиевой Лавре, продлившийся с 6 по 9 июня. Собор прославил в лике святых ряд подвижников: Димитрия Донского, Андрея Рублёва, Максима Грека, святителей Макария Московского, Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, преподобных Паисия Величковского и Амвросия Оптинского. На соборе также обсуждались многие актуальные вопросы церковной жизни.
12 июня на площади восстановленного Данилова монастыря Божественную литургию совершали: Патриарх Антиохийский Игнатий IV, Патриарх Иерусалимский Диодор I, Патриарх Московский Пимен, Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, Патриарх Румынский Феоктист, Патриарх Болгарский Максим, Архиепископ Кипрский Хризостом I.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен, выступая на закрытии юбилейных торжеств, отметил: «Христианство было тем руслом, по которому потекла в древнерусскую землю культура самой развитой цивилизации того времени — Византии. Эта культура попала на благодатную почву… Завершаются первые десять веков истории нашей Церкви. Господи! Благослови в мире и благочестии вступить во второе тысячелетие нашего бытия в доме Божием… землю же Русскую в мире сохрани и веру православную в ней утверди во веки веков. Аминь».
13 июня 1988 года в Москве, в районе Царицынских прудов, вблизи Каширского шоссе, патриарх Пимен заложил камень в основание храма, посвящаемого 1000-летию Крещения Руси.
назад
Четверть века назад Церковь праздновала Тысячелетие Крещения Руси. Этот день стал поворотной точкой в русской истории ХХ века: общество повернулось лицом к Церкви, и вторую христианизацию Руси уже ничто не могло остановить. Воспоминаниями о Тысячелетии Крещения Руси делятся свидетели этих перемен.
Глоток свежей воды
Николай Державин, старший референт референтуры Святейшего Патриарха Московского и всея Руси:

Год тысячелетия Крещения Руси был во многом поворотным. Это было начало потепления в церковно-государственных отношениях. Еще было далеко до конструктивных взаимоотношений, но некие, как сейчас говорят, сигналы стали поступать. Помните, поначалу было сказано так, что тысячелетие крещения Руси — это сугубо внутрицерковное дело, а в результате получилось широкое церковно-общественное празднование и в Москве, и в Петербурге, и в Киеве, и в других городах.
Я думаю, что, помимо изменения отношения со стороны власти, этот добрый импульс нашел отклики в сердцах людей, которые устали от официоза, от этой лживой жизни. Включаете программу «Время», и там все лучше и лучше, показатели все выше и выше, а реальная жизнь не меняется к лучшему. А тут — глоток свежей чистой воды. Душа народная откликнулась.
90-е годы и все прошедшие 20 лет — это особый удивительный период. У Церкви появились новые возможности, и надо было их использовать. Мы — свидетели и в какой-то степени участники этих благодатных перемен, происходящих и в Церкви и в обществе.
Но при всех удивительных переменах и огромной свободе, важно, чтобы человек был внутренне свободен от греха, чтобы каждый смог сознательно развиваться. Возможности сегодня есть, а будут ли они использоваться? Важно, чтобы мотивация поступков у людей изменилась, чтобы, как говорит Святейший Патриарх Кирилл, норма веры стала нормой жизни.
Пюхтицкое подворье
Игумения Георгия (Щукина), настоятельница Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме:

В Таллине, в 1960 году у нас было хорошее подворье, но пришли коммунисты и взорвали его (хиротония владыки во епископа состоялась в 1961 году, если б на полгода пораньше, он бы не допустил!). В Питере, я слышала, раньше в гавани находилось Пюхтицкое подворье, но там устроили универмаг. Кто же отдаст универмаг! Тут владыка достаёт из кармана ключи, и передаёт их нам: «Вот вам ключи, матушки, от Иоанновского монастыря на Карповке, где покоится дорогой наш батюшка Иоанн. Через две с половиной недели, 1 ноября, память Иоанна Рыльского, постарайтесь восстановить. Будем освящать». Мы удивились: «Как за две недели?!» А он: «Матушки, постарайтесь».
Вечером должен был быть по программе концерт, но мы попросили благословения в тот же день выехать в Ленинград. И вечером с матушкой Варварой поехали. Я позвонила своим родственникам, сестре, нас встретили на вокзале. И мы сразу отправились на Карповку. Ключи у нас были. А храм найти не можем. Знаете, что там творилось! Всё было заброшено на протяжении нескольких десятилетий. Жили бомжи, валялись бутылки, повсюду был устроен туалет: запах, грязь, папиросы… Одну дверь откроем, другую, найти не можем! Потом открыли, видим — сарай. Столько помёта, невозможно! Стёкол нет, голуби летают. Это был храм Иоанна Рыльского.
Мы сразу вызвали сестер из Пюхтицы, они приехали на своей машине. Я позвонила в духовную семинарию, я знала ректора отца Владимира Сорокина: «Батюшка помогите, пожалуйста!» — «Мать, откуда ты?» — «С Карповки» — «С какой Карповки?» Я говорю: «Из Иоанновского монастыря». — «Как из Иоанновского?» — «Батюшка, дорогой, владыка передал ключи, 1 ноября в день памяти Иоанна Рыльского будет освящение, помогите нам, пришлите ребят». И вот ребята, семинаристы, утром позавтракают, и их на машине привозили. У них были свои топорики, инструменты, пилы, вёдра. Еще приходили мои родственники, знакомые.
За два месяца до этого в Пюхтицу приехала моя близкая знакомая Полина Васильевна Малиновская. Она жила как раз напротив монастыря. Сейчас её внуки и правнуки остались, она сама уже давно умерла. Она приехала в Пюхтицу. Мы обедали, и тут она говорит: «Матушки, я в последний раз приезжаю, очень слабо себя чувствую и, может, больше вас не увижу, но хочу вам сказать про дорого батюшку отца Иоанна Кронштадтского».
И она нам открыла следующее: близкий ей человек был свидетелем того, как коммунисты спустились в усыпальницу Иоанновского монастыря и хотели вскрыть мощи батюшки Иоанна Кронштадтского. Когда они открыли гроб, то один сразу тронулся умом, а другой упал замертво. Они так испугались, что тотчас покинули усыпальницу.
Что творилось в усыпальнице! Туалеты текут, вонища, жутко! 300 противогазов вынесли, парты… Когда мы уже полностью освободили усыпальницу, всё расчистили, смотрю — забетонированное место. Всё ясно: под ним захоронение. Святейший почти каждый день звонил мне, спрашивал, как идут дела. А тут я, не дождалась его звонка, первая ему позвонила сообщить, что мы обрели место, где покоится дорогой батюшка. Святейший обещал быть у нас через два дня. А вскоре пришла помощь из Финляндии, и мы смогли устроить скромное надгробье, подсветку, иконостас, написали иконы. А потом праздновали прославление дорогого батюшки. Его мощи до сего дня не открыты, как дальше будет неизвестно. Господь управит всё по воле Своей святой.
Восстановить Данилов монастырь
Наталия Сухова, заведующая Центром Истории богословия и богословского образования Богословского факультета и доцент кафедры Истории Русской Православной Церкви ПСТГУ:
Наталия Сухова. Фото: pstgu.ru
Когда в 1983 г. Церкви отдали Данилов монастырь, то его несколько лет не восстанавливали, потому что было непонятно, для чего его отдали: чтобы восстановить монастырь в полном смысле значения или только для того, чтобы сделать резиденцию Святейшего Патриарха Пимена? Потом, в конце 1986 г., решили, что именно в Даниловом монастыре нужно отмечать Тысячелетие Крещения Руси. А тысячелетие наступало через полтора года. Был брошен клич по всей Москве, что монастырь надо восстанавливать, и нужны добровольцы. На него откликнулось много церковного народа, в том числе студенты московского университета.
Студенты, прочие жители Москвы работали там все субботы и воскресенья, иногда ночью. Ставили софиты, приносили котлы с едой… Об этом остались воспоминания, как о некой золотой эпохе. За несколько месяцев до празднования Тысячелетия Крещения решили, что отмечать его нужно именно в монастыре, то есть, должна быть братия. Тогда была пострижена первая плеяда монахов, в том числе, из тех людей, кто восстанавливал монастырь.
Религиозное воодушевление стало массовым явлением
Протоиерей Александр Щелкачев, заведующий кафедрой истории Русской Православной Церкви БФ ПСТГУ:

В Церкви казалось, что никаких торжеств не будет. Можно только догадываться, почему компартия решила провести торжества Может быть, для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что у нас нет гонений на Церковь, может, из-за опасения, что если праздник не будет отмечаться у нас, то инициатива будет перехвачена Зарубежной церковью. Но, вместе с тем, чувствовался промысл Божий. Чем ближе приближалось время праздника, тем яснее это становилось.
Можно все объяснить человеческой мудростью: и начавшуюся Перестройку, и пересмотр отношения к Церкви, и то, что всем стало очевидно, что коммунистическая идеология обанкротилась, но никто не ожидал столь резкой смены отношения к Церкви. Это явное вмешательство Божие в жизнь русского народа.
Особенно явно действие Божие стало ощущаться, когда был передан Даниловский монастырь, и после этого в храмах стали молиться князю Даниилу — раньше этого не было. Само воодушевление знакомых людей, которые восстанавливали Данилов монастырь, передававшееся даже мирским людям, было отрадно и говорило о том, что в стране что-то будет меняться.
Монастырь был отдан Церкви до Горбачева, кажется, еще при Андропове. При Черненко началось было торможение подготовки к празднованию, но незадачливый генсек быстро отправился в мир иной, а при Горбачеве негатив кончился, власти пошли навстречу Церкви, монастырь восстановили и помогли всем необходимым в организации торжеств.
Я слышал небольшой рассказ, который характеризует церковно-политическую обстановку того времени. Во время подготовки к празднику вызывали всех настоятелей московских храмов. Отец Владимир Рожков, настоятель Николо-Кузнецкого храма до отца Владимира Воробьева, был вызван к уполномоченному по делам религий. Причем, отправляясь к нему, он спрятал крест и рясу.
Вдруг уполномоченный начал говорить, что у нас вами задача как следует отметить Тысячелетие Крещения Руси: «Что для этого нужно сделать»? Отец Владимир понял, о чем будет разговор и что за обстановка, надел рясу, крест и сказал, что нужно, прежде всего, ликвидировать лужу, которая была перед входом в Николо-Кузнецкий храм.
Я был на юбилейном богослужении в июне 1988 года в Даниловом монастыре, и там тоже чувствовалась совершенно особая атмосфера. Все говорило о том, что начинается новое время, все будет по-новому. Размышляя об этом, я понимал, что должна быть проявлена особая ответственность Церкви, и необходимо постараться, чтобы милость Божия, которая нам даруется, была принята с благодарностью, и мы, со своей стороны, сделали бы все возможное, чтобы быть достойными Его даров.
Богослужение помнится очень хорошо. Такого за всю историю Советского Союза не было, наверно, с момента похорон святого Патриарха Тихона, которого тогда же, в 1988 году канонизировали. Главный собор Данилова монастыря не мог вместить всех молящихся, люди заполнили всю монастырскую территорию. Чтобы все могли следить за ходом литургии, были установлены большие телеэкраны.
Появилась возможность открытой проповеди, устраивались собрания для дискуссий на тему христианства, которые собирали огромные аудитории. Собрания, в которых участвовали отец Владимир Воробьев и отец Александр Салтыков, постепенно превратились в богословские курсы, из которых вырос Свято-Тихоновский — сначала институт, а теперь университет. Даже журнал «Наука и религия» вдруг захотел узнать, что им скажет Церковь, и в редакцию пригласили священников. Отец Валентин Асмус на той встрече сказал, что он с их журналом знаком, и считает, что у них нет ни науки, ни религии, зато много атеизма, поэтому журнал вульгарен.
Религиозное воодушевление стало массовым явлением. Количество верующих очень увеличилось. Резко изменилось отношение к вере в Бога в государстве и в обществе, в Церковь пришло много людей, потому что всем стало очевидно, что коммунистические гонения на Церковь кончились.
Настоящий живой праздник
Народный художник России Сергей Харламов:
Сергей Харламов
В 1988 году наша страна, весь православный мир отмечали 1000-летие Крещения Руси. Празднование проходило в Великом Новгороде, в Дни славянской письменности и культуры.
В древний город на торжества приехал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, будущий Патриарх Московский и Всея Руси. На торжество собрались писатели, художники, ученые, государственные и общественные деятели.
Я вместе с группой выставкома Союза художников занимался экспозицией ежегодной выставки, приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры. Но в тот раз все было по иному, ведь отмечалась такая глобальная дата!
Концерты, встречи в клубах и домах культуры, диспуты — ими были насыщены все дни торжеств. И воспринималось это не как официоз, а как настоящий живой праздник.
Этому способствовало и то, что вокруг было много знакомых лиц, радостные объятия друзей, новые встречи, знакомства, которые оказывались — на всю жизнь. Именно тогда я познакомился с Вячеславом Михайловичем Клыковым. Он тогда выставил скульптуру — портрет писателя Василия Ивановича Белова, моего будущего друга.
В шествиях, крестных ходах принимало участие множество народу. Однажды, когда крестный ход проходил по мосту, мост зашатался. Люди даже немного испугались, но все обошлось благополучно.
Событие было знаменательным для того времени: о православии в нашей стране, где еще несколько лет назад открыто верить было нежелательно, а порой и небезопасно, заговорили во весь голос. Причем — на государственном уровне. Чувствовалось: жизнь меняется.
Глядя на памятники древнерусской архитектуры, в том числе редкие, домонгольские, мы ощущали, что цепочка преемственности, которую так долго пыталась оборвать советская власть, не оборвалась. И мы связаны с нашими предками, в том числе и тем, что они передали нам свою веру, указали верный путь, по которому стоит двигаться в жизни.
Казалось — мы свидетели второго Крещения Руси.
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
В 987 году Владимир, князь Киевский, отказался от язычества и принял православную веру. В следующем году он собрал весь люд русский на берегах Днепра, в водах которого его крестили византийские священники. С этого времени православие стало государственной религией на Руси.
Во время правления князя Владимира христианские ценности поддерживались государственной властью. Киевский князь содействовал устройству больниц и богаделен, заботился о пропитании неимущих. Государственную поддержку получили строительство и украшение храмов, была создана первая школа, началась подготовка русского духовенства.
5 июня 1988 года, спустя тысячу лет со дня крещения Руси, в Москве начались торжественные празднества, которые продолжались до 12 июня — дня памяти всех русских святых. В эту неделю прошли основные мероприятия, а вообще празднование 1000-летия крещения Руси проходило в СССР в апреле-июне 1988 года.
Всю неделю в московских храмах совершались праздничные богослужения, а 11 июня прошло всенощное бдение. Затем торжества прошли в Киеве, Ленинграде и Владимире, а после 18 июня — в епархиях.
После 70-летнего периода пропаганды атеизма в стране начался новый этап в истории Русской православной церкви. Начали открываться, реставрироваться и строиться новые храмы. Все больше людей стало обращаться к Богу, стала доступной Библия и церковная литература, на телевидении появись духовные христианские программы.
5 июня 1988 года — с литургии в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы ( у станции метро Бауманская) началось торжественное празднование 1000-летия крещения Руси. Сами торжества проходили в СССР с апреля по июнь 1988 года.
Такого размаха не ожидал никто. Впервые за все годы советской власти религиозный праздник отмечали с помпой и на государственном уровне. Эти торжества для многих ознаменовали собой неоспоримое желание Михаила Горбачева сделать более либеральной жизнь на одной шестой части суши. Из разряда «опиума для народа» религия переходила в ранг одного из элементов советского быта.
В начале празднований 29 апреля Михаил Горбачев принял в Кремле Патриарха Пимена и членов Священного Синода, но не так, как в 1943 году Сталин устроил тайный прием верховенства РПЦ — Патриарх и генеральный секретарь, улыбаясь, жали друг другу руки перед объективами многочисленных журналистов. Даже «Правда» посвятила этой знаковой встрече большую статью с фотографией.
«Наша встреча происходит в преддверии 1000-летия введения христианства на Руси, — говорил М.С. Горбачев, — которое получило не только религиозное, но и общественно-политическое звучание, ибо это знаменательная веха на многовековом пути развития отечественной истории, культуры, русской государственности». Горбачев говорит о трагических ошибках периода культа личности, затронувших и религиозные организации, и об исправлении этих ошибок при разработке закона о свободе совести». ( Подробности о встрече тут: https://ed-glezin.livejournal.com/999722.html )
Накануне торжеств Церкви были переданы Козельская Введенская Оптина пустынь (Калуга) и Толгский монастырь (Ярославль), возвращены часть построек Киево-Печерской лавры. Церкви были переданы мощи, находившиеся на хранении в государственных музеях Московского Кремля.
Празднование Тысячелетия Крещения Киевской Руси увенчалось успехом. Непредвиденно для публичного благотворительных целей, был предоставлен Большой театр, были приняты иностранные гости у главы Совета Министров Н.И. Рыжкова — пока продолжались празднования программа постоянно разрасталась. И неустанно эти мероприятия обширно, в пределах всего СССР, были освещены на телевидении. Горбачев не участвовал в этих сюжетах, но его супруга — Раиса Максимовна Горбачева была частой гостьей всех нелитургических мероприятий и все время была в центре внимания СМИ.
Именно с 1988 г. начинается смена приоритетов религиозной политики, переход Советского государства к признанию религиозных прав граждан и лояльному отношению к Церкви. Итогом этого периода стало принятие осенью 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях», после чего в стране сложилась принципиально новая система государственно-церковных отношений.
Церковь вышла из «подполья». РПЦ в массовом порядке начали возвращать храмы и монастыри. Не зря Патриарх Алексий II назвал годы правления Горбачева «вторым крещением Руси». Мусульманам стали возвращать мечети, иудеям — синагоги.
Духовная жизнь страны страны сбросила с себя оковы государственного атеизма.
В начале празднований 29 апреля Михаил Горбачев принял в Кремле Патриарха Пимена и членов Священного Синода, но не так, как в 1943 году Сталин устроил тайный прием верховенства РПЦ — Патриарх и генеральный секретарь, улыбаясь, жали друг другу руки перед объективами многочисленных журналистов. Даже «Правда» посвятила этой знаковой встрече большую статью с фотографией.
«Наша встреча происходит в преддверии 1000-летия введения христианства на Руси, — говорил М.С. Горбачев, — которое получило не только религиозное, но и общественно-политическое звучание, ибо это знаменательная веха на многовековом пути развития отечественной истории, культуры, русской государственности». Горбачев говорит о трагических ошибках периода культа личности, затронувших и религиозные организации, и об исправлении этих ошибок при разработке закона о свободе совести». ( Подробности о встрече тут: https://ed-glezin.livejournal.com/999722.html )
Накануне торжеств Церкви были переданы Козельская Введенская Оптина пустынь (Калуга) и Толгский монастырь (Ярославль), возвращены часть построек Киево-Печерской лавры. Церкви были переданы мощи, находившиеся на хранении в государственных музеях Московского Кремля.
Основные юбилейные торжества проходили 5 — 12 июня 1988 года в Загорске и Москве.
6 июня открылся Поместный Собор в Троице-Сергиевой Лавре, продлившийся до 9 июня. Собор прославил в лике святых ряд подвижников: Димитрия Донского, Андрея Рублёва, Максима Грека, святителей Макария Московского, Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, преподобных Паисия Величковского и Амвросия Оптинского. На соборе также обсуждались многие актуальные вопросы церковной жизни.
12 июня, в Неделю всех святых, в земле Российской просиявших, на площади восстановленного из полуразрушенного состояния Данилова монастыря Божественную литургию совершали: Патриарх Антиохийский Игнатий IV, Патриарх Иерусалимский Диодор I, Патриарх Московский Пимен, Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, Патриарх Румынский Феоктист, Патриарх Болгарский Максим, Архиепископ Кипрский Хризостом I.
Празднование Тысячелетия Крещения Киевской Руси увенчалось успехом. Непредвиденно для публичного благотворительных целей, был предоставлен Большой театр, были приняты иностранные гости у главы Совета Министров Н.И. Рыжкова — пока продолжались празднования программа постоянно разрасталась. И неустанно эти мероприятия обширно, в пределах всего СССР, было освещены на телевидении. Горбачев не участвовал в этих сюжетах, но его супруга — Раиса Максимовна Горбачева была частой гостьей всех нелитургических мероприятий и все время была в центре внимания СМИ.
Именно с 1988 г. начинается смена приоритетов религиозной политики, переход Советского государства к признанию религиозных прав граждан и лояльному отношению к Церкви. Итогом этого периода стало принятие осенью 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях», после чего в стране сложилась принципиально новая система государственно-церковных отношений.
Церковь получила должную правовую основу своей деятельности и приобрела правоспособность юридического лица. По ст. 13 Закона впервые с 1918 г. права юридических лиц были утверждены за отдельными приходами и церковными учреждениями, в том числе и за Патриархией. Согласно ст. 18, религ. организации признавались собственниками зданий, предметов культа, объектов производственного, социального и благотворительного назначения, денежных средств и иного имущества, необходимого для осуществления их деятельности. Ст. 6 открывала юридическую возможность для религ. воспитания детей. Религ. организации получили право заниматься производственной и хозяйственной деятельностью, учреждать благотворительные и социальные заведения, беспрепятственно публиковать и распространять религиозную литературу, направлять граждан за границу для паломничества, обучения и участия в религиозных мероприятиях.
Церковь вышла из «подполья». РПЦ в массовом порядке начали возвращать храмы и монастыри. Не зря Патриарх Алексий II назвал годы правления Горбачева «вторым крещением Руси». Мусульманам начали возвращать мечети, иудеям — синагоги.
Духовная жизнь страны страны сбросила с себя оковы государственного атеизма.
1000-летие крещения Руси. 1988. Фрагмент передачи «Старая квартира»:
https://vk.com/video8382163_165811978
Божественная Литургия в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы. Праздничное богослужение, посвященное 1000-летию Крещения Руси, 5 июня 1988 года.
===============
Владислав Мальцев:
После празднования 1000-летия Крещения Руси мы открыли не только 2000 православных храмов, мы открывали и униатские храмы, и баптистские, и синагоги по всему Союзу… Это был, если искать аналоги в истории, наш Миланский эдикт, который вопреки распространенным заблуждениям не делал христианство государственной религией, а разрешал свободно исповедовать его и все иные религии в Римской империи. Не надо забывать, что вслед за празднованием 1000-летия Крещения Руси был принят Закон «О свободе вероисповеданий».
Читать полностью: http://www.ng.ru/faith/2013-08-08/100_edict.html
===============
Председатель Совета по делам религий в 1984–1989 годах Константин Харчев вспоминает и оценивает реформы в отношениях государства и верующих.
Ответственный редактор «НГР» Андрей МЕЛЬНИКОВ встретился с «кормчим перестройки в делах религий», чтобы услышать от первого лица, как это было и к чему привело страну и ее верующих граждан.
Независимая газета — 03.06.2015.
http://www.k-istine.ru/pseudoconfession/pseudoconfession-165.htm
========================
Киножурнал «Наш край». Июль 1988. Празднование 1000-летия Крещения Руси, проповедь архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла Гундяева, поклонение Вечному огню.
https://vk.com/video211076044_456239267
Общая численность зарегистрированных в СССР религиозных объединений выросла в 1985-1990 гг. почти в 1,5 раза — с 12 438 до 16 990. Росла численность практически всех религиозных конфессий. Если за первые 5 месяцев 1988 г. было зарегистрировано 60 новых приходов РПЦ, в оставшиеся месяцы года Церкви возвратили более 1 тыс. храмов. В 1990 г. в РПЦ было уже 10 110 приходов (в 1985 — 6806), число зарегистрированных общин старообрядцев всех согласий увеличилось с 337 до 361, более чем в 5 раз стало больше приходов Грузинской Православной Церкви (51 приход в 1985 и 270 — в 1990), с 33 до 50 увеличилось число приходов Армянской Апостольской Церкви.
В 1985 г. в СССР было зарегистрировано 1068 римско-католич. приходов (из них более половины в Литве). На западе Украины существовало значительное количество нелегальных общин греко-католиков (униатов), начавших с 1987 г. кампанию за легализацию Украинской греко-католической Церкви. 1 дек. 1989 г. состоялась встреча Г. с папой Римским Иоанном Павлом II, в ходе к-рой были достигнуты договоренности об установлении офиц. отношений между СССР и Ватиканом и о восстановлении в СССР структур католич. Церкви. Были учреждены апостольские администрации для европ. и азиат. частей России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Число римско-католич. приходов в СССР достигло 1286. С осени 1989 г. на Украине в условиях обострения межнациональных отношений и активизации националистических орг-ций массовый характер приняли захваты униатами правосл. храмов. В янв. 1990 г. Украинская греко-католическая Церковь получила в СССР легальный статус. Несмотря на неоднократные обращения РПЦ, в т. ч. и лично к Г., к лету того же года при потворстве местных властей большинство правосл. храмов в зап. областях Украины было захвачено греко-католиками.
Лютеранская церковь в СССР в 1985 г. насчитывала 580 приходов, в основном находившихся в Эстонии и Латвии. Лютеран. священнослужители принимали активное участие в движениях за полный суверенитет Эстонии и Латвии и их выход из СССР, что привело к отстранению части пасторов от церковной службы. Из-за увольнения большинства преподавателей на время был закрыт теологический ин-т в Риге. Весной 1989 г. Синод Евангелическо-лютеранской Церкви Латвии избрал новое церковное руководство и, ссылаясь на изменившиеся политические условия, потребовал от гос-ва прекратить вмешательство во внутренние дела своих общин. Позднее такие же изменения произошли в Евангелическо-лютеранской Церкви Эстонии. К 1990 г. число зарегистрированных лютеран. приходов выросло до 619. С 86 до 94 увеличилось к 1990 г. количество приходов Реформатской церкви в Литве и на территории Закарпатской обл. Украины. В сер. 80-х гг. ХХ в. в СССР насчитывалось 53 зарегистрированные и ок. 100 незарегистрированных общин меннонитов, объединявших этнических немцев. С началом массовой эмиграции советских немцев число зарегистрированных меннонитских общин практически не изменилось (55 в 1990) и в дальнейшем стало сокращаться. Оставшиеся меннониты примкнули к баптистам.
В 1985 г. в СССР насчитывалось 2294 религ. общины, входившие во Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). С 1986 г. были прекращены репрессии в отношении членов отделившегося от ВСЕХБ Совета Церквей евангельских христиан-баптистов (СЦЕХБ) (см. ст. Инициативники), через 2 года его деятельность была легализована. В 1990 г. ВСЕХБ был преобразован в СЕХБ (Союз евангельских христиан-баптистов); общая численность зарегистрированных общин баптистов составила 2151. Снижение числа общин баптистов можно объяснить выходом из ВСЕХБ части общин пятидесятников, ранее включенных туда под давлением властей. Количество зарегистрированных религ. общин пятидесятников выросло с 235 до 602. Число объединений адвентистов седьмого дня увеличилось в 1985-1990 гг. с 342 до 432.
Ислам, 2-я по числу верующих религия в стране, увеличил количество зарегистрированных религ. орг-ций почти в 3 раза. Если в 1985 г. в СССР было всего 392 зарегистрированные мечети, то в 1990 г. их насчитывалось уже 1103. В авг. 1989 г. в Татарской АССР и Башкирской АССР прошли торжества, посвященные 1100-летию принятия мусульманства Волжской Булгарией и 200-летию Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири. Эти праздничные мероприятия по масштабу были сопоставимы с празднованием 1000-летия Крещения Руси. К торжествам приурочили закладку и открытие мечетей в Уфе, Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В связи с национальным подъемом среди традиционно исповедующих ислам народов произошли изменения в системе органов управления исламскими орг-циями. В 1989 г. разделилось Духовное управление мусульман Сев. Кавказа (ДУМСК), что привело к возникновению духовных управлений мусульман северокавк. республик. В 1990 г. от Духовного управления мусульман Ср. Азии и Казахстана (САДУМ) отделилось Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).
В 1985 г. в СССР была 91 зарегистрированная иудейская община, к 1990 г. их число выросло до 102. С кон. 80-х гг. ХХ в. наряду с ортодоксальным талмудическим направлением в стране началось распространение реформистского и хасидского иудаизма. В янв. 1990 г. съезд представителей иудейских общин СССР образовал Всесоюзный совет еврейских религ. общин (ВСЕРО), в к-рый вошла 61 община.
До «перестройки» в СССР действовало 2 зарегистрированных религ. объединения буддистов: Иволгинский (Бурятия) и Агинский (Агинский Бурятский АО) дацаны. В 1988 г. буддийские общины были зарегистрированы в Калмыкии, Туве и Ленинграде. В 1991 г. из Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ, центр в Улан-Удэ) выделилось Объединение буддистов Калмыкии. Общее число буддийских общин в стране выросло до 16.
Подробности тут: http://www.pravenc.ru/text/166175.html
Раиса Максимовна Горбачева на торжественном вечере в честь 1000-летия крещения Руси в Большом театре.
=======================
Воспоминания очевидцев празднования:
Лев Кудрявцев, писатель-киевовед:
— Для меня торжества в честь 1000-летия Крещения Руси начались утром 15 июня 1988 г., когда, по приглашению и пропуску, полученным на работе после долгих уговоров и обещания отработать затраченное время, я с сослуживцем отправился к Владимирскому кафедральному собору на бульвар Тараса Шевченко.
За оградой на внутренней территории храма и снаружи ее скопились десятки тысяч людей. Во всех проходах и со стороны центрального входа в два ряда стояла милиция и солидные мужчины в темных костюмах. Чтобы попасть внутрь Владимирского собора, многие люди, как рассказывали, пришли сюда еще в 3 часа ночи. Все пространство у собора со стороны улиц Леонтовича и Ивана Франко было сплошь заполнено людьми. Литургию возглавлял тогдашний Экзарх Украины — Митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко). И вот из храма под звон колоколов начали выходить церковные иерархи, облаченные в золотые архиерейские ризы, в сопровождении священников, монахов и прихожан. На моих глазах начался торжественный крестный ход.
На следующий день, 16 июня 1988 г., праздничные мероприятия с 9 часов утра проходили на площади у Аннозачатьевского храма Дальних пещер Киево-Печерской Лавры. От входа на территорию Лавры и до Дальних пещер стояло шесть, а то и семь кордонов милиции. Верующие заполнили территорию, прилегающую к храму — на площадке, на ступеньках лестницы, ведущей к храму Рождества Богородицы и древнему монастырскому некрополю. Корреспонденты и фоторепортеры делали съемки с крыш.
Накануне, на небольшой площадке перед храмом был оборудован навес с покрытым коврами настилом и скамьями. В центре установили престол. Вскоре вся Лавра наполнилась призывным и гулким перезвоном колоколов Великой колокольни. Божественная литургия длилась около двух часов. Когда запели “Отче наш”, то присутствующие среди почетных гостей римские кардиналы поднялись со скамей. После богослужения все поздравляли друг друга с великим праздником.
На следующий день состоялся крестный ход на Владимирскую горку, к памятнику Крестителю Руси. А начавшийся ливень был принят как второе крещение в древнем Киеве.
Дмитий Гуденизраэль:
Я прекрасно это помню. В преддверии указанной даты в советских СМИ всячески старались преуменьшить значимость или поставить под сомнение сам факт этого события. Либо писали, что точная дата неизвестна. Но вот — я собственными ушами это слышал — в одном из выступлений Горбачёв сказал: «Приближается знаменательная дата — тысячелетие крещения Руси». И тут же советские СМИ, привычно «изогнувшись вместе с литнией партии», сменили тон. И также изменилась общая политика в отношении религиозных организаций и общин. Прекратилось преследование тех, кто ему подвергался (например, пятидесятники), а те, которые и до того официально существовали — не только христианские — получили свободу отправления богослужения и для них открылся доступ к аудитории.
Игумен Лонгин (Чернуха), председатель Синодального отдела “Миссия Духовное просвещение”:
— 1000-летие, хотя и смутно, но все же представлялось грандиозной эпохальной датой, какой-то свежей струей в обществе, где мало кто знал историю своего Отечества в контексте жизни Православной Церкви. Мне тогда было 16 лет. К этому времени мое мировоззрение сформировалось на атеистических штампах и я, конечно же, не мог переживать во всей полноте радость этого празднования. Но в воздухе будто витало ощущение чего-то важного и в то же время неизвестного, предчувствие открытия чего-то нового… В связи с этим также вспоминается два случая, которые, наверное, иллюстрируют, как быстро менялось тогда общество. В январе 1988 года я был студентом-первокурсником. Помню, как нашей группе сообщили об исключении четверокурсницы за то, что, выходя замуж, она обвенчалась. Признаюсь, мы были перепуганы. А в мае того же года у нас проводили анкетирование. В одном из пунктов спрашивалось, какой знаменательный юбилей празднует страна в этом году? Через день куратор нашей группы, перепуганная, вбежала в класс со словами: “Что вы со мной делаете?!”. Оказывается, что в ответе все написали “1000-летие Крещения Руси”, и никто не написал “70-летие комсомола”. Правда, никто не пострадал.
Читать полностью: http://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4730:2013-05-16-15-36-37&catid=77:2011-08-30-13-38-08&Itemid=6
Празднование тысячелетия крещения Руси стало для СССР началом конца — марксистско-ленинская идеология уступила перед христианством и дальнейшей либерализацией советской жизни, — пишет Дмитрий Громов в рубрике Архив № 4 журнала Корреспондент от 3 февраля 2012 года.
16 июня 1988 года в Киеве шел проливной дождь. Несколько тысяч человек, собравшихся вокруг памятника князю Владимиру, который в 998 году обратил Киевскую Русь в христианство, раскрыли зонтики, но радовались непогоде так, будто на них снизошла манна небесная. И недаром.
«Говорили, это второе крещение Руси!» — вспоминает о том дне патриарх Филарет, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, тогда – экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий.
Летом 1988-го в столице советской Украины впервые за 70 лет коммунизма с помпой и государственным размахом отмечали религиозный праздник, а именно – тысячелетие крещения Руси. «Крестный» дождь, торжественный молебен и колокольный звон столичных храмов для Украины, а также России и Беларуси действительно был знаковым. После юбилея, который праздновался также в Москве, Минске и Ленинграде, СССР фактически признал, что является частью великой христианской цивилизации.
Летом 1988-го в столице советской Украины впервые за 70 лет коммунизма с помпой и государственным размахом отмечали религиозный праздник, а именно –тысячелетие крещения Руси
В стране безбожников такое празднество казалось почти невозможным. Однако, по словам патриарха Филарета, руководившего подготовкой к торжествам, отмечать тысячелетие собирались все зарубежные митрополии православной и греко-католической церквей, и проигнорировать это событие СССР не мог. Иначе Кремль продемонстрировал бы всему миру, что в Советском Союзе нет свободы совести.
К тому же на закате брежневской эпохи советская власть стала более лояльной по отношению к церкви, выполнявшей роль миротворца в отношениях с капиталистическим миром. «Церкви доверяли на Западе, а партии и советскому правительству не доверяли», — уверен Филарет.
Все эти факторы и сделали возможными «повторное крещение Руси».
Христос воскрес
В 1987-м в Москве произошла ключевая встреча: генсек СССР Михаил Горбачев принял у себя патриарха всея Руси Пимена. «Православные иерархи на протяжении многих лет просили этой встречи», — напоминает Константин Харчев, в 1984-1989 годах – председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР.
Последний раз глава советского государства встречался с церковниками более 40 лет назад — в 1943-м. В самый разгар Второй мировой Иосиф Сталин пошел на сближение с церковью, чтобы укрепить дух советского народа. Поэтому в те годы не велась антирелигиозная пропаганда, из тюрем выпустили многих священников, возобновились богослужения в храмах.
В самый разгар Второй мировой Иосиф Сталин пошел на сближение с церковью, чтобы укрепить дух советского народа
Нынешняя же встреча ознаменовала собой желание власти сделать более либеральной жизнь на одной шестой части суши. Ее итогом стало историческое решение – из разряда «опиума для народа» религия переходила в ранг одного из элементов советского быта.
Изменения были зримыми. Власти стали передавать церкви культовые сооружения, а в дни Пасхи на улицах появились растяжки с надписью Христос воскрес!. «В светских изданиях стали писать слово «Бог» с большой буквы», — вспоминает Харчев.
Главным же следствием беседы патриарха и генсека стало решение отпраздновать дату «воцерквления» славянских земель Союза.
Впрочем, не все получилось сразу. Фундамент этого решения отцы церкви стали готовить еще в 1970-х. По словам Филарета, идея добиться от властей разрешения на празднование крещения Руси родилась в Священном синоде РПЦ у его постоянных членов, включая самого Филарета, а также митрополитов Минского, Крутицкого и Коломенского.
«Чтобы праздновать, нужно было согласовать это с Советом по делам религий, а это фактически с Политбюро, ЦК и КГБ», — рассказывает глава УПЦ КП.
Власти стали передавать церкви культовые сооружения, а в дни Пасхи на улицах появились растяжки с надписью Христос воскрес!.
Поначалу там предложение святых отцов восприняли, мягко говоря, с прохладцей. Ведь подобный поворот дел означал бы, что власти признают: христианство оказало положительное влияние на историю советского народа. Было и еще одно «неудобство» — в рамках подготовки торжеств иерархи просили о возврате в лоно церкви двух крупнейших православных обителей — Новодевичьего монастыря и Киево-Печерской лавры, что означало возобновление там института монашества.
В качестве компромисса церкви предложили вместо Новодевичьего взять Данилов монастырь, а лавру отдать не всю, а лишь дальние пещеры. «Мы решили, что нужно соглашаться: дают — бери, иначе вообще ничего не получим», — вспоминает Филарет.
История доказала правильность подобного подхода. Ведь, несмотря на договоренности, с Киево-Печерской лаврой советская власть не хотела расставаться до последнего. Категорически против был первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий, говорит патриарх. Лишь когда в Москве начались литургии и другие торжественные мероприятия, посвященные тысячелетию, украинские власти подписали соответствующее решение.
В качестве компромисса церкви предложили вместо Новодевичьего взять Данилов монастырь, а лавру отдать не всю, а лишь дальние пещеры
Передача лавры и стала началом торжеств в Киеве. Затем прошел крестный ход вокруг Владимирского собора. «Даже двухчасовой сильный ливень не смог рассеять многотысячную толпу людей, из-за переполненности кафедрального собора вынужденных стоять снаружи, на прицерковной площади, и слушать службу через громкоговорители», — писала тогда газета Известия.
Апофеозом юбилея стал молебен на Владимирской горке. Согласно легенде, именно на этом месте киевский князь крестил свою державу десять веков назад.
Теперь здесь собралась не только толпа народа, но и духовенство чуть ли не со всего мира: предстоятели автокефальных православных церквей — Иерусалимской, Румынской, Болгарской и Кипрской, кардиналы римско-католической церкви во главе с госсекретарем Ватикана Агостино Казароли, главы протестантских церквей, англиканской церкви, церковные иерархи из Америки, Азии и Африки.
А вот советские партлидеры, повинуясь решению Политбюро, непосредственного участия в торжествах не принимали. Об этом Корреспонденту рассказал Леонид Кравчук, первый президент Украины, а в те годы – заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии УССР.
Даже двухчасовой сильный ливень не смог рассеять многотысячную толпу людей, из-за переполненности кафедрального собора вынужденных стоять снаружи, на прицерковной площади, и слушать службу через громкоговорители
Да и денег на проведение юбилея государство не выделило. Впрочем, это не слишком огорчило священнослужителей. «Проблем с финансами не было — у церкви их было достаточно для этого», — вспоминает Филарет.
Зато иерархов церкви приняла у себя Валентина Шевченко, председатель Президиума Верховного Совета УССР, а в театре оперы и балета состоялось торжественное собрание. Финалом всего стал праздничный ужин в ресторане гостиницы Киев.
Позже отдельные празднества по этому же поводу прошли в Харькове, Львове и Тернополе.
«Это [празднование тысячелетия] тогда было темой всех выступлений, в том числе в СМИ, партийных даже, — рассказывает Кравчук. — Наши газеты Радянська Україна, Правда України, Робітнича газета, Сiльскi вiстi писали именно с такой точки зрения: где корни современной цивилизации? А сказать это было непросто — что [корни] не в марксизме-ленинизме, не в научном коммунизме, а в христианстве».
Начало конца
Празднование юбилея ознаменовало перелом в жизни в СССР. Впервые за годы советской власти выпустили 100 тыс. экземпляров Нового завета и 500 тыс. экземпляров молитвослова на русском и украинском языках.
В лоно церкви вернулись ее реликвии, находившиеся на хранении в музеях московского Кремля, — частица Креста Господня, камни Гроба Господня, десница апостола Андрея Первозванного, глава святителя Иоанна Златоуста, частицы мощей князей Владимира великого и Александра Невского.
В лоно церкви вернулись ее реликвии, находившиеся на хранении в музеях московского Кремля
Власти уже не чинили препятствий для регистрации новых приходов, хотя старые храмы отдавали в руки церкви по-прежнему с большим скрипом. Особенно это касалось зданий, которые занимали госконторы, научные учреждения или музеи.
По словам Филарета, после юбилея значительно ослаб контроль власти над церковью. Ведь, начиная с 1920-х годов, священники оставались под колпаком у органов госбезопасности. Даже священников в СССР назначали с согласия советов по делам религий, существовавших в каждом областном центре. «Они давали [каждому приходскому священнику] регистрацию — специальное удостоверение на право совершать богослужения», — рассказывает Филарет.
Религиозно-социальные перемены, произошедшие в конце 1980-х, по мнению патриарха, приблизили крах социалистической империи. И как введение христианства на Руси в 988 году приблизил славянскую державу к европейской культуре, так и «повторное крещение» 1988-го стало одним из факторов, вернувшим Восточную Европу из многолетней изоляции от западного мира.
«Сегодня, вспоминая все это, я прихожу к выводу: неслучайно в конце 1970-х [в правительстве] не соглашались на празднование этой даты. Там сидели неглупые люди, которые понимали, к чему это может привести», — резюмирует глава УПЦ КП.
***
Этот материал опубликован в №4 журнала Корреспондент от 3 февраля 2012 года.
https://korrespondent.net/ukraine/events/1316795-korrespondent-vtoroe-kreshchenie-rusi-prazdnovanie-tysyacheletiya-kreshcheniya-rusi-stalo-dlya-sssr-nachalom-k
========================
Сообщения в советской прессе:
Мы думали, что, разрушая и разоряя церковные храмы, мы боремся с религией, которая есть “опиум для народа”, а на самом деле мы всего-навсего рушили вековую красоту и лишали себя крепких, добротных построек.
Мы срывали иконы из красных углов, гасили и разбивали вдребезги лампадки, конфисковывали Библии и другие столь же предосудительного содержания книги, полагая, что тем самым мы выступаем против дремучего невежества и мракобесия, а на самом деле мы лишь оскорбляли верующих, обижали безобидных древних старушек и седобородых старцев.
Да мало ли что еще может сотворить нехорошего воинствующий экстремизм безбожия!
Сегодня мы исправляем многое. Среди особо неприятных заблуждений экстремизма непонимания — видение Церкви как врага, противника новой жизни. Это, несомненно, упрощение, опримитивленный взгляд на вещи.
(Отрывок из статьи журналиста Григория Оганова “Перестройка и 1000-летие Крещения Руси”. “Советская культура”, 18 июня 1988 г.)
http://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4731%3A-20-&catid=77%3A2011-08-30-13-38-08&Itemid=6
========================
Академик Д. С. Лихачёв о Крещении Руси
Новый мир. 1988. №6. С. 249-258.
Нет в советской исторической науке, посвященной Древней Руси, более значительного и вместе с тем наименее исследованного вопроса, чем вопрос о распространении христианства в первые века крещения.
В начале XX века появилось сразу несколько чрезвычайно важных работ, по-разному ставивших и разрешавших вопрос о принятии христианства. Это работы Е. Е. Голубинского, академика А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова, В. А. Пархоменко, В. И. Ламанского, Н. К. Никольского, П. А. Лаврова, Н. Д. Полонской и многих других. Однако после 1913 года тема эта перестала казаться значительной. Она попросту исчезла со страниц научной печати.
В задачу моей статьи входит поэтому не завершать, а начинать постановку некоторых проблем, связанных с принятием христианства, не соглашаться, а может быть, противоречить обычным взглядам, тем более что утвердившиеся точки зрения часто не имеют под собой солидной основы, а являются следствием неких, никем не высказанных и в значительной мере мифических “установок”.
Одно из таких заблуждений, застрявших в общих курсах истории СССР и других полуофициальных изданиях, это представление, что православие было всегда одним и тем же, не менялось, всегда играло реакционную роль. Появились даже утверждения, что язычество было лучше (“народная религия”!), веселее и “материалистичнее”…
Читать полностью: https://троицкий-округ.рф/blog/619/
Коллекция первых разрешённых к производству значков и памятных знаков РПЦ 1987-88 гг., выпущенных ХОЗУ МП РПЦ в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси: продажные, подарочные и почётные — почти полная коллекция всех вариантов как пластиковых, так и металлических.
https://www.facebook.com/100006468781387/posts/3144446472447615/
Автографы одного из самых авторитетных в то время у прихожан митрополитов РПЦ — Филарета Минского и Слуцкого и знаменитого ведущего православной программы «Голоса Америки» протоиерея Виктора Потапова.
Карантинные хроники-5.
Разбирая бабушкины закрома, нашёл уникальные артефакты возрождавшейся в СССР церковной жизни: я в тот период своей жизни был активно вовлечён в становление общинного уклада и социального служения РПЦ, а потому имел пропуска на все знаковые события, как-то Торжественный акт и богослужение в Даниловом монастыре в празднование 1000-летия крещения Руси, Пасха года 400-летия учреждения патриаршества в Патриаршем соборе и первое патриаршее богослужение в Успенском соборе — уже патриарха Алексия II.
Удивительно, но о последнем историческом событии нашёл в сети только материал на сайте общины Храма Большого Вознесения: https://bolshoevoznesenie.ru/history/744-pervyj-krestnyj-xod-i-osvyashhenie-xrama-1990/
=========
Артефакты события: https://www.facebook.com/100006468781387/posts/3125758940983035/
12 июня 1990 года в Кремле Президент СССР М. С. Горбачев принял Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и постоянных членов Священного Синода
Документальная съемка празднования в Киеве 1000-летия Крещения Руси (1988 год) в фильме Леонида Осыки «Этюды о Врубеле»
«Московские новости» 19 июля 1987 года.
==================
Приглашаю всех в группы «ПЕРЕСТРОЙКА — эпоха перемен»
«Фейсбук»:
https://www.facebook.com/groups/152590274823249/
«В контакте»:
http://vk.com/club3433647
====================================

1000-летие Крещения Руси
В июне 1988 года в Москву съехались иерархи почти всех православных церквей планеты и представители крупнейших мировых конфессий. Их всех собрали торжества, приуроченные к 1000-летию Крещения Руси. На территории только что восстановленного Данилова монастыря произошла Божественная Литургия, которую возглавлял Патриарх Московский Пимен.
К этому моменту праздничные мероприятия продолжались в крупнейших городах Советского Союза уже неделю. Многотысячные крестные ходы, праздничные Богослужения проходили в Москве, Ленинграде, Владимире, Новосибирске. В Киеве под проливным дождем вокруг памятника равноапостольному князю Владимиру, который в 988 году обратил Киевскую Русь в христианство, собрались несколько тысяч человек.
Встреча Горбачева со Святейшим Патриархом Пименом и членами Священного Синода
А за несколько недель до празднования, в апрельскую Москву съехались репортеры со всего мира. Они освещали встречу в Екатерининском зале Кремля Михаила Горбачева с членами Священного Синода. Генеральный секретарь и предстоятель РПЦ перед телекамерами пожали друг другу руки.
Сам Горбачев при этом назвал Крещение Руси князем Владимиром «значительной вехой на многовековом пути развития отечественной истории, культуры и русской государственности», и отметил, что благодаря перестройке стало возможным более активное участие религиозных деятелей в жизни общества.
В ответ на это Патриарх Пимен выразил «архитектору перестройки и провозвестнику нового политического мышления» «всецелую поддержку», «искреннюю благодарность» и благословил Горбачева на продолжение начатых дел.
Позже Патриарх Пимен и другие иерархи Церкви были награждены орденом Трудового Красного Знамени «за активную миротворческую деятельность и в связи с 1000-летием Крещения Руси».
Все эти сцены выглядели довольно странно в атеистическом государстве, которое еще несколько десятилетий назад взрывало храмы. Когда в 1937 году прошла перепись, в которой 42% населения, даже в условиях репрессий, признали себя православными, это не могло устроить руководство страны. Устроителей переписи отправили к стенке, а ее результаты аннулировали.
Государственно-церковные отношения
Но на самом деле идея отметить 1000-летие Крещения Руси возникла еще в 1970-х. Предложение партии священнослужители сделали, но оно было воспринято прохладно. Кроме идеологических противоречий было и материальное. В рамках подготовки торжеств иерархи просили о возврате в лоно Церкви двух крупнейших обителей: Новодевичьего монастыря и Киево-Печерской лавры. Это означало возобновление там института монашества, что для советских властей тогда было неприемлемо.
Отношение компартии к Русской Церкви стало постепенно меняться с начала 80-х. Событием чрезвычайной важности была передача Московской Патриархии в 1983 году комплекса строений московского Данилова монастыря. Стало понятно, что празднование 1000-летия Крещения Руси возможно.
Празднование 1000-летия Крещения Руси
Между тем величайший праздник в истории РПЦ изначально планировался исключительно как закрытое внутрицерковное мероприятие. Запланированные на начало лета 1988 года торжества было решено приурочить к Неделе всех святых, в земле Российской просиявших, которая, в соответствии с церковным календарем, выпадала в тот год на неделю с 5 по 12 июня. Планами РПЦ заинтересовалось руководство СССР, которое хотело показать миру явную демократизацию. За развитием ситуации следили многие зарубежные страны, а Генеральная ассамблея ЮНЕСКО даже призвала отметить «1000-летие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре».
На этом фоне государство решилось передать Церкви важнейшие обители: ярославский Толгский монастырь, Козельскую Введенскую Оптину Пустынь и Киево-Печерскую лавру. Денег на торжества государство, конечно, не выделило, но информационная поддержка была оказана мощная. Стало ясно, что страна меняется и меняется очень сильно.
На интересную рубрику >>
5 июня 1988-го года в СССР торжественно отмечалось Тысячелетие Крещения Руси.
Формально религия в СССР не была под запретом, ходить в церковь не запрещалось, но вместе с тем постоянно велась антирелигиозная пропаганда. В школах и детских садах учителя и воспитатели должны были разоблачать детям религиозные суеверия, а человек, который ходит в церковь, считался неблагонадёжным.
Во время Великой Отечественной Войны, когда страну охватило нечеловеческое горе, Сталин неожиданно разрешил открыть некоторые церкви. Однако при Хрущёве случилась очередная антирелигиозная волна — с разоблачением культа Сталина и возвращение к «ленинским нормам» всё, что делал Сталин осуждалось, и если он открывал церкви, их следовало закрыть.
При Хрущёве было снесено едва ли не больше церквей, чем в 20-30-е годы. Те, что чудом уцелели в годы Революции, Гражданской и Великой Отечественной Войны, сносились бульдозерами в мирное время. Часто их даже не трудились разобрать полностью — сбив купол или взорвав фасад, их бросали в сёлах и городах уродливыми руинами.
Церковь наводнили агенты КГБ, которые использовали свои посты для выявления неблагонадёжных элементов. Тайна исповеди перестала быть тайной. Родителям, которые крестили своих детей, официально сообщали об этом на работу. Не в каждом учреждении, но в каких-то серьёзных конторах, связанных с оборонкой (а почти все производство было именно с ней и связано) могли быть серьёзные неприятности. А родитель, занимающий комсомольский или партийный пост, мог его и лишиться.
Однако в 1988-м году было уже другое время. Шла Перестройка, декларировалась Гласность — если ещё не свобода слова, то близкая к ней ценность. Возникла дилемма — вопросами религии Перестройка ещё не занималась, и антирелигиозная пропаганда по инерции продолжалась. В то же время не отметить круглую дату было нельзя — хотя бы из исторических соображений. На самом верхнем уровне дали отмашку — отмечать! Изначально планируемые как сугубо внутрицерковные, торжества получили общесоюзный статус. Празднования по случаю Тысячелетия и события предыдущих месяцев ознаменовали собой реальный поворот в церковной политике в Советском Союзе.
Подготовка к торжествам велась в церковных кругах долгие 8 лет. Ещё 23 декабря 1980 года Священный Синод постановил «начать подготовку к празднованию Русской Православной Церковью предстоящего великого юбилея», для чего образовал Юбилейную комиссию под председательством Патриарха Пимена.
17 мая 1983 года с разрешения Андропова состоялась официальная передача комплекса строений московского бывшего Данилова монастыря для создания на его территории «Духовно-административного центра» Московского Патриархата. Решение было воспринято не только православными Москвы, но и всего СССР как событие чрезвычайной важности, как первый знак, возможно, меняющегося отношения руководства страны к нуждам Церкви.
Восстановление первой после 1930 года монашеской обители в столице коммунистического государства стало широко известно в обществе, что привлекло интерес как к предстоящему Юбилею, так и православию вообще. Однако в 1984 году при ретрограде Черненко была предпринята попытка не допустить создания в Данилове монастыре монашеской общины. Но после смерти генерального секретаря возражения со стороны властей снова отпали.
В СМИ начали появляться материалы о репрессиях в СССР, о Русской Церкви как хранительнице народной культуры и духовности, об Оптиной Пустыни, судьбе Храма Христа Спасителя, других уничтоженных святынях.
Генеральная ассамблея ЮНЕСКО призывала отметить «1000-летие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре».
29 апреля 1988 года состоялась встреча Патриарха и постоянных членов Синода с Михаилом Горбачёвым «в связи с 1000-летием введения христианства на Руси», которая послужила сигналом для партийных и советских органов, дозволяющим освещение празднования Юбилея как общенационального мероприятия. Одно из официальных изданий Московской Патриархии того времени писало: «29 апреля 1988 года в Кремле состоялась историческая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Священного Синода Русской Православной Церкви. В беседе М. С. Горбачёв отметил, что в условиях перестройки стало возможным более активное участие религиозных деятелей в жизни общества. И поэтому не случайно, что в 1989 году Патриарх Пимен был избран народным депутатом СССР».
Состоявшееся 28—31 марта 1988 года в бывшем Новодевичьем монастыре Архиерейское Предсоборное Совещание в коммюнике, среди прочего, отмечало: «Участники Архиерейского Предсоборного Совещания с благодарностью считают необходимым отметить положительное отношение Советского правительства к вопросам, выдвигаемым Священноначалием нашей Церкви».
Дошло об абсурда — священников награждали коммунистическими орденами! Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1988 года «за активную миротворческую деятельность и в связи с 1000-летием Крещения Руси» Патриарх Пимен, митрополит Киевский Филарет (Денисенко), митрополит Ленинградский Алексий (Ридигер), архиепископ Горьковский Николай (Кутепов), архиепископ Дмитровский Александр (Тимофеев) (ректор МДА) были награждены орденом Трудового Красного Знамени; ряд других иерархов — орденом Дружбы народов.
Накануне торжеств Церкви были переданы Козельская Введенская Оптина пустынь (Калуга) и Толгский монастырь (Ярославль). Накануне самого Тысячелетия Церкви были возвращены часть построек Киево-Печерской лавры. Церкви были переданы мощи, находившиеся на хранении в государственных музеях Московского Кремля.
Основные юбилейные торжества проходили 5 — 12 июня 1988 года в Загорске и Москве.
6 июня открылся Поместный Собор в Троице-Сергиевой Лавре, продлившийся до 9 июня. Собор прославил в лике святых ряд подвижников: Димитрия Донского, Андрея Рублёва, Максима Грека, святителей Макария Московского, Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, преподобных Паисия Величковского и Амвросия Оптинского. На соборе также обсуждались многие актуальные вопросы церковной жизни.
12 июня, в Неделю всех святых, в земле Российской просиявших, на площади восстановленного из полуразрушенного состояния Данилова монастыря Божественную литургию совершали: Патриарх Антиохийский Игнатий IV, Патриарх Иерусалимский Диодор I, Патриарх Московский Пимен, Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, Патриарх Румынский Феоктист, Патриарх Болгарский Максим, Архиепископ Кипрский Хризостом I.
Константинопольский Патриарх Димитрий I не прибыл вследствие некоторых разногласий протокольного характера. Торжества в Константинопольской Патриархии, в которых принимала участие делегация от Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Смоленским и Вяземским Кириллом, состоялись раньше и были приурочены к Неделе Православия, 28 февраля 1988 года.
Торжества происходили в Москве, Ленинграде, Новгороде, Киеве, Владимире и во всех епархиях Русской православной церкви. Был организован торжественный концерт в Большом театре.
Многие мероприятия празднеств широко транслировались по центральному телевидению.
1000-летие крещения Руси отмечалось также Русской православной старообрядческой церковью и Русской Зарубежной Церковью.
Итогом всесоюзных празднований стало то, что антирелигиозная пропаганда в СССР была постепенно свёрнута. Теперь в церкви можно было увидеть даже крупных советских лидеров (к примеру, в ней стал появляться Борис Ельцин). Советская власть перестала видеть в церкви угрозу, напротив, церковь могла стать её опорой, укрепляя в населении лояльность власти.
Приблизительное время чтения: 15 мин.
Празднование в 1988 году 1000-летия Крещения Руси стало тем переломным моментом, после которого действительно началось возрождение церковной жизни в СССР. Последующую за торжествами эпоху некоторые даже называют «вторым крещением Руси». «Фома» беседует с одним из очевидцев тех событий — профессором Московской духовной академии и специалистом по церковной истории Алексеем Светозарским, голос которого известен многим зрителям телетрансляций с праздничных богослужений.
Первый после распада СССР крестный ход по Невскому проспекту. Санкт-Петербург, 1993 г. Фото из архива И. С. Арцышевского
— Алексей Константинович, 1000-летие Крещения Руси стало неким катализатором церковного возрождения в конце 1980-х годов. В какой момент лично Вы поняли, что нечто начинает меняться в отношении государства к Церкви?
— Когда я работал учителем в одной московской средней школе, со мной случился такой забавный эпизод. В то время, накануне тысячелетия Крещения Руси, появились значки с христианской символикой (с портретами Патриарха, изображением князя Владимира с крестом — копией знаменитого киевского памятника и т. д.). Будучи тогда уже прихожанином храма преподобного Пимена Великого, одним из таких значков я себя и обозначил. По молодости, конечно, — ведь в молодости хочется чего-то внешнего, может быть, даже эпатирующего. И значок заметил наш школьный парторг… Это был вполне симпатичный человек лет сорока, в меру циничный, исполняющий свою должность абсолютно из карьерных соображений. И он, конечно, попытался попенять мне за этот значок. Я что-то ответил, и на этом мы разошлись.
И тут состоялась встреча Горбачева с патриархом Пименом и высшими иерархами Русской Православной Церкви, членами Синода. Буквально на следующий день парторг подошел ко мне и дружески сказал:
— Ну что? Празднуем тысячелетие?
— Празднуем, — ответил я.
Вот тогда и понял, что мы действительно будем праздновать.
— В какой момент Вы сознательно пришли в Церковь?
— Я всегда чувствовал себя связанным с Православной Церковью. Хотя мы с семьей не были церковными людьми в полном, современном смысле этого слова — я не очень люблю выражение «воцерковленность», но могу сказать, что мы воцерковлены не были. Однако никогда я не слышал дома хульных или пренебрежительных выражений в адрес Церкви. В нашей семье был некий запас семейных традиций, были люди, которых я никогда не видел, но которые незримо присутствовали рядом… Мы происходим из священнического рода, что было мне известно и в советское время, однако подробности я узнал позже: мой прадед, дядья моего отца пострадали за веру. Мой дед окончил семинарию, позже отбыл срок как враг народа.
Поэтому понятно, что в доме были разговоры о Церкви, было стремление отца каким-то образом вернуться к семейной традиции. Сам он, например, пошел работать в Издательский отдел Московской Патриархии.
— А как и когда у Вас возникло желание поступать в Духовную семинарию?
— Поскольку отец работал в официальной церковной структуре, это прибавляло некоторой уверенности относительно выбора моего дальнейшего пути: я общался с людьми Церкви, с духовными лицами, и даже когда еще не принял окончательного решения, стало понятно, что школьным учителем я оставаться не готов … У меня появилось ощущение, что дальнейшая жизнь будет связана с Церковью, и в определенном смысле это будет неким продолжением семейной традиции.
Семинария стала как раз результатом того самого сознательного выбора, который мы сделали с моей покойной супругой, с ее полного согласия и при ее активном содействии. Шел 1990 год — все-таки еще советская власть. Я считаю, что это был выбор, хотя было понятно по каким-то внешним событиям, что тем выбором, который верующие люди делали в 1970-е годы, он не будет.
— Вы имеете в виду — по последствиям?
— Да. Хотя отец мне говорил: «Ты понимаешь, что система такова, что если ты из нее вылетишь, тебя больше никуда не возьмут, кроме как в профсоюз?»
Прибытие мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеево, 31 июля 1991 г. Фото Романа Яровицына
Народное движение и абсолютный идеализм
— Какие настроения витали, какие разговоры велись в Вашем кругу под конец 1980-х годов? Чего ожидали?
— Вокруг меня были люди, несомненно, церковные — это священнослужители, выпускники филологического факультета. Был более широкий круг — моих сокурсников по филфаку, с которыми мы вместе отмечали большие церковные праздники — Рождество, Пасху. И в тот период все чувствовали: что-то должно произойти. Мы учились еще в 1983-84 годы, когда властью была предпринята попытка ужесточения идеологической линии — я помню, выходили антирелигиозные статьи с гнусными названиями. Помню, была какая-то темная история с попыткой организации подпольной семинарии в стране… Но мы узнавали об этом либо по «радиоголосам», либо из официальных публикаций, в основном в газете «Известия». И никак не реагировали на эти внешние обстоятельства: многие мои друзья-сокурсники самым серьезным образом шли по пути воцерковления. Сегодня они православные христиане, среди них известные люди. Конечно, возникали вопросы: чем это все обернется, разрешат Церковь или не разрешат? Но жизнь шла своим чередом.
— Насколько предощущение перемен, ожидания, которые тогда возникли, оправдались в 1990-е годы?
— На самом деле, ожидания были робкими. Думали: «Открылись два монастыря — Толга и Оптина — а как дальше будет? Сколько отдадут храмов? Надолго ли разрешат служить?»
Главные ворота Оптиной Пустыни, 1991. Фото ИТАР-ТАСС
Интересно, что преддверие юбилея Крещения Руси сопровождалось народным движением: так называемые добровольные помощники реставраторов просто приходили в храмы, не думая, что там в итоге устроят — храм или концертный зал — и выгребали из закрытых церковных зданий мусор, помогали в их восстановлении. И, конечно, чувствовалось общее желание, чтобы храмы вернулись к своему предназначению, чтобы здесь совершалось Божественная Литургия. Среди этих людей существовал абсолютный идеализм, впоследствии многие из них образовали церковные общины, остались в Церкви.
— По телевидению впервые показали богослужение — насколько это было неожиданным или казалось закономерным?
— Все шло своим чередом. Первое вещание — это трансляция из Богоявленского собора, вел ее Николай Иванович Державин, человек, блестяще умеющий очень грамотно, спокойно, доступным языком объяснить людям довольно сложные вещи. Я не всегда мог следить за трансляциями, потому что бывал в храме на ночных богослужениях. Главным ценителем этих показов был мой покойный отец, он очень высоко ставил Николая Ивановича, да и для меня он — первопроходец и безусловный авторитет в этой области. Одно время я работал параллельно с ним — у нас начались трансляции Рождественской службы из Новодевичьего монастыря по телеканалу «Культура». Это было совершенно новое дело, в котором было безумно интересно участвовать! Позже появились трансляции из храма Христа Спасителя, но это уже более близкая к нам по времени история…
1227 человек против системы
— Каким было самое запоминающееся, отрадное событие того времени для Вас?
— Одно из самых радостных и бесконечно дорогих воспоминаний — участие в восстановлении храмов. Представьте себе момент, когда уже подгнившие, старинные двери церкви с изображением крестов, которые пережили времена гонений, вдруг открываются перед нами… А ведь раньше мы не могли не то что побывать там, даже заглянуть внутрь! Где-то сохранялись иконостасы, где-то — даже иконостасы с иконами, где-то, наоборот, совсем ничего не было, полная мерзость запустения. Участие в восстановлении этих храмов очень многое мне дало.
Мы всей семьей в этом участвовали. Даже когда сын был совсем маленький, тоже «помогал» — какие-то палки таскал с места на место. Мы таким образом побывали во многих местах, отправлялись в Подмосковье, работали в храме преподобного Сергия Радонежского в Бусинове, выезжали в какие-то монастыри. Все это было замечательно, очень радостно, отрадно! При том, что работа была довольно тяжелая физически: таскали кирпичи, на носилках мусор вывозили. Потом обязательно бывало чаепитие, беседы, которые ценились тогда на вес золота. Мы обретали единомышленников, видели, что есть другие люди, которым дорога вера, Церковь, что их много. Поразительное время!
— Люди бросали свои профессии, уходили в монастыри, становились священниками, церковными сторожами, иконописцами. Были такие примеры радикальной перемены жизни среди Ваших знакомых?
— Да, и в моем кругу это шло, скорее, естественным путем. Я иногда говорю, что филфак — это «филиал» Московской духовной академии. Самые близкие мне люди в то время — это будущий протоиерей Максим Козлов, будущий протоиерей Артемий Владимиров. Еще во время учебы стало понятно, что они пойдут по дороге служения Церкви. И надо сказать, их уважали на факультете — уважали за независимость, за их убеждения, за человеческую позицию, за отношение к другим людям. Это было очень здорово.
Еще один мой университетский товарищ по каким-то личным причинам бросил учебу и уехал трудиться в Оптину пустынь. Мы бывали у него, когда обитель открыли (тоже, кстати, в предверии празднования юбилея Крещения Руси). Жили там в монастыре. Вот это было чудо! Вообще тогда очень многие приняли монашество и сейчас продолжают свое служение.
— А что Вас связывает с храмом святителя Николая в Хамовниках? Неспроста о нем Вы впоследствии писали кандидатскую.
— Этот храм я посещал студентом, неизменно бывал там на богослужениях в Страстную седмицу, в ночь с Великой Пятницы на Великую Субботу и потом рано-рано утром — на Литургии Великой Субботы. Все, что связано с Хамовниками, мне бесконечно дорого! Мне объективно удалось зафиксировать предание о судьбе этого храма и его прихожан, донесенное людьми, которых с нами уже нет. Я очень рад и благодарен Богу за то, что успел это сделать! В алтарь этого храма меня ввел Сергей Павлович Лепехин, сын настоятеля, а его отец пришел туда еще в 1912 году. Поэтому я мог прикоснуться через него к истории дореволюционного периода, 1920-х, 30-х, 40-х годов. К примеру, он рассказывал мне о попытках закрыть храм, чему люди сопротивлялись очень мужественно. Об этом очень мало написано. Более тысячи прихожан в 1930 году успели подать петицию во ВЦИК (это можно было сделать в двухнедельный срок после официального решения о закрытии храма). Причем в петиции необходимо было указывать фамилию, имя, отчество, домашний адрес, телефон, место работы и т. д. И люди не побоялись! Я даже сейчас могу назвать точную цифру: подписались 1227 человек. И благодаря им храм в Хамовниках не закрыли. Это уникальный случай.
— 1200 человек прихожан, в одном московском храме, в 1930-е годы?…
— Храм был переполнен, потому что окрестные церкви закрывались, уничтожались. Например, церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Зубове, церковь Живоначальной Троицы в Зубове. Святыни, храмовые иконы оттуда были перенесены в Хамовники, туда же перешли священнослужители, в результате собрался огромный штат священников, человек десять—двенадцать. И приход был огромный. 1227 человек — это еще не все прихожане, а только те, кто осмелились открыто выступить в защиту храма…
Причащение… некрещеных
— Как Вам вспоминается само празднование 1000-летия Крещения?
— Я не был еще сотрудником церковной структуры и праздновал, как все. Помню, что в Пименовском храме, например, служил митрополит из Финской Православной Церкви — необычное событие, особенное. Потом были празднования в Даниловом монастыре. Мы стояли около милицейского оцепления и могли только предполагать, что происходит за монастырскими стенами: вход туда был строго по билетам. Люди собрались самые разные: очень немногочисленные сотрудники церковных отделов, официальных структур, частично — духовенство. Были и представители науки, и это тоже очень важный момент. Ведь состоялись две большие конференции, посвященные юбилею Крещения Руси. И там вдруг выяснилось, что масса людей среди представителей светской науки — тех, кто занимается древнерусской литературой, русской историей, — заявили о своей позиции, позиции верующих людей!
На праздничной Литургии в Даниловом монастыре — это я знаю от тех людей, которые там были, — патриарх Пимен благословил причащаться всем, независимо от степени готовности. Даже некоторые наши ученые, будучи некрещеными, приобщились Святых Христовых Таин… Вот такой интересный момент. По крайней мере, об одном таком человеке я знаю: он впоследствии принял Святое Крещение и стал христианином.
— А было ли какое-то противодействие тому, что происходит?
— Отец Иннокентий Просвирин однажды дал мне «на рецензию» книжку одного «научного атеиста» (была такая категория людей, впоследствии многие из них переквалифицировались в религиоведов). Книжка эта как раз была продуктом советской официальной контрпропаганды против празднования юбилея Крещения Руси, вышла году в 1987. Все положительное, что можно было сказать об этом поворотном моменте русской истории, автор свел… к развитию огородничества. Дескать, попы ввели посты, поэтому у нас начали выращивать огурчики, помидорчики, горох и т. д. Меня это жутко позабавило, но я просто не понимал, зачем отец Иннокентий дал мне эту книжку, потому что опубликовать рецензию я не мог. Однако я ее добросовестно прочитал и батюшке «доложил» свое мнение.
— Кто из мирян или духовенства в тот период был для Вас примером, на кого Вы могли бы равняться? Кого могли бы назвать героем того времени?
— Все оказались героями этого времени, потому что духовенство направлялось всюду, куда только было можно. Я очень хорошо помню, что трудились неустанно, просто по-апостольски трудились и проповедовали: выступали перед самыми разными аудиториями — например, в Библиотеке иностранной литературы, и в профессиональном техническом училище, которое готовило секретарей, и на предприятиях, где работали люди с ограниченными возможностями, и в общежитии ткачих в Сергиевом Посаде и т. д.
Люди массово шли в храмы, уделить кому-то время было непросто. Я помню набитый битком огромный храм, помню исповеди на Великий Четверг, огромные очереди на исповедь, батюшка идет с епитрахилью через толпу, и максимум, что он может сказать кому-то лично: «Как у тебя дела?» Люди пошли в церковь, молодежь пошла — это, наверное, главное чудо того периода.
— Сейчас выросло новое поколение священников — за двадцать с лишним лет. Они уже другие, чем те, кто открывал храмы в 1980-1990-е?
— Ну, конечно. Это люди другого поколения, люди самые разные, с самыми разными судьбами. Что бесконечно радует, кто-то из них — из традиционно священнических семей: слава Богу, неиссякаем этот поток. Я бы особо выделил здесь своих первых учеников, семинаристов, мы с ними были почти ровесники, а некоторые — и старше меня. Это как раз те, кто пришел в Церковь на волне юбилея, поступил в семинарию в 1990-1992 годах. Очень серьезные молодые люди, как правило, получившие высшее образование (в большинстве своем, техническое), к встрече с которыми надо было каждый раз готовиться. Потому что они задавали глубокие, искренние вопросы — без всяких «подковырок», — касающиеся разных проблем церковной истории.
Это поколение я всегда отмечаю. Они мне очень дороги! Среди них были самые разные люди. Были даже мальчишки, которые не смогли получить в школе аттестат зрелости, но раскрывались в нашем семинарском мире — и потом уже с улыбкой вспоминали те конфликты, которые переживали в средней школе, в том числе и по мировоззренческим причинам, а может быть, просто по причине подросткового разгильдяйства. Был, например, человек, который в 14 лет сбежал из дома, поступил в семинарию и скрыл свой возраст: он был крепкий паренек и сказал, что ему 16 лет.
— И приняли?
— Приняли, потому что все было так правдоподобно! Сейчас он настоятель одного из московских храмов.
Накануне освящения Введенского храма. Мужской монастырь «Оптина пустынь», 1989. Фото РИА-Новости
Главное, чтоб сказали: «Как у вас хорошо!»
— Как человек, который занимается историей Церкви, Вы пытались взглянуть на происходящее с точки зрения исторической закономерности?
— Тогда — безусловно нет. Это было время молодости, был задор, был огромный подъем: мы жили тем, что сейчас принято называть «церковным возрождением»!
И потом, я считаю, что любое историческое событие может быть оценено лет через двадцать, когда более или менее будут видны контуры того, что происходило. Так, скажем, осмысление событий Великой Отечественной войны происходит лет через двадцать после ее окончания, появляются замечательные фильмы, публикации. То же самое можно сказать о юбилее Крещения Руси. Сегодня можно строить какие-то предположения, но тогда это была просто жизнь.
— Но прошло больше двадцати лет. Вы делали попытку как-то осмыслить то, что случилось?
— Говорят разное, но я сторонник той точки зрения, что события, связанные с празднованием тысячелетия Крещения Руси (считая несколько лет до того и несколько лет после), были продиктованы многими причинами. Были политические причины и некоторые достаточно циничные соображения, которыми, несомненно, руководствовалась власть. И был, конечно, момент, который можно отнести к области иррационального: готовность людей, духовный голод тех, кто очень быстро и массово вошел в ограду Церкви. Сейчас картина того времени мне кажется ясной: народный идеализм и политический цинизм.
— Если смотреть шире, с точки зрения всей истории христианства, Вы не пытались вывести некую закономерность в событиях конца 1980-х годов?
— Безусловно, какие-то аналогии можно провести. К примеру, время Раскола — трагедия XVII века, когда часть людей не желает принимать навязываемую церковную реформу, а большая часть людей — принимает за послушание. Или век секуляризации. В романах Льва Николаевича Толстого — хотя он не самый значимый авторитет для духовной среды — очень хорошо показано то поколение рационалистов: старый князь Болконский, отец Андрея; показаны мистические, болезненные поиски Пьера Безухова.
Маятник качается, и одна эпоха приходит на смену другой. Самое главное сейчас, как мне кажется, чтобы маятник не качнулся навсегда в ту сторону, в какую он качнулся в Европе, — в сторону постхристианства. Этого, слава Богу, в России нет. Что рождает надежду.
— Что Вас сегодня вдохновляет, как тогда вдохновляло восстановление храмов и возвращение их Церкви?
— Молодые ребята, которые приходят учиться к нам, в семинарию, в Духовную академию. Приходят с огромным запасом идеализма. И не только молодые вдохновляют, но и те, кто прошел духовную школу, и вот этот огонь в сердце сохранил.
— Как говорится, у кого «горят глаза»…
— «Гореть» они должны на первом курсе. А когда эти ребята пройдут через какое-то испытание своей почти детской, подростковой, веры, то придут к некой христианской мудрости. И эти глаза будут уже спокойными, доброжелательными к окружающему миру и разумными. Такие люди есть сейчас, поэтому я радуюсь.
— Многие люди пессимистично смотрят на будущее Церкви в ближайшее время. Вы рискуете делать какие-либо прогнозы?
— Я не хотел бы говорить о каких-то перспективах, о прогнозах, а хотел бы сказать об ответственности, которая лежит на нас. Поскольку Церкви по-прежнему доверяют. С моим другом, профессором нашей академии, мы часто подолгу обсуждаем внутрицерковную ситуацию и взаимоотношения Церкви и общества — это наше право и, я полагаю, наша обязанность. И мы пришли к выводу, что есть некая простая формула: что в Церкви все должно быть так, чтобы люди, глядя на нас со стороны, может быть, из-за церковной ограды, говорили: «У них так все здорово. Я хочу быть с ними». Это очень сложно. Но больше ничего не нужно…
Фото Владимира Ештокина
Алексей Константинович Светозарский
Родился в 1963 году. Окончил филологический факультет МГУ, работал в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. С 1990 года преподает в Московской духовной семинарии и академии. В 1992 года окончил экстерном семинарию, в 1997 году — академию. Профессор, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории МДА. Комментатор телетрансляций праздничных богослужений на российских федеральных каналах.
Источник фото А. К. Светозарского — сайт МПДАиС.