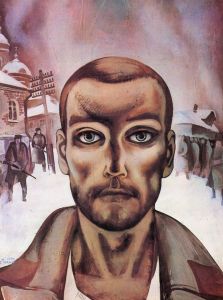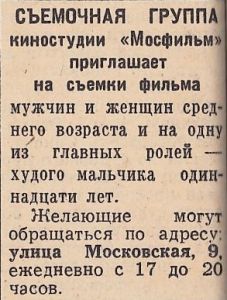| The Ascent | |
|---|---|
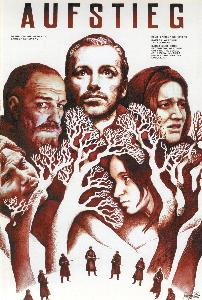
German poster — (left to right) Rybak, the village headman, Sotnikov, Basya, Demchikha |
|
| Directed by | Larisa Shepitko |
| Written by | Vasil Bykaŭ (novel) Yuri Klepikov Larisa Shepitko |
| Based on | Sotnikov by Vasil Bykaŭ |
| Starring | Boris Plotnikov Vladimir Gostyukhin Sergei Yakovlev Lyudmila Polyakova Anatoli Solonitsyn |
| Cinematography | Vladimir Chukhnov Pavel Lebeshev |
| Music by | Alfred Schnittke |
|
Production |
Mosfilm |
|
Release date |
|
|
Running time |
111 minutes |
| Country | Soviet Union |
| Languages | Russian German |
The Ascent (Russian: Восхождение, tr. Voskhozhdeniye, literally — The Ascension) is a 1977 black-and-white Soviet drama film directed by Larisa Shepitko and made at Mosfilm.[1] The movie was shot in January 1974 near Murom, Vladimir Oblast, Russia, in appalling winter conditions, as required by the script, based on the novel Sotnikov by Vasil Bykaŭ.[2] It was Shepitko’s last film before her death in a car accident in 1979. The film won the Golden Bear award at the 27th Berlin International Film Festival in 1977.[3] It was also selected as the Soviet entry for the Best Foreign Language Film at the 50th Academy Awards, but was not accepted as a nominee.[4]
Plot[edit]
During the Great Patriotic War (World War II), two Soviet partisans go to a Belarusian village in search of food. After taking a farm animal from the collaborationist headman (Sergei Yakovlev), they head back to their unit, but are spotted by a German patrol. After a protracted gunfight in the snow in which one of the Germans is killed, the two men get away, but Sotnikov (Boris Plotnikov) is shot in the leg. Rybak (Vladimir Gostyukhin) has to take him to the nearest shelter, the home of Demchikha (Lyudmila Polyakova), the mother of three young children. However, they are discovered and captured.
The two men and a sobbing Demchikha are taken to the German headquarters. Sotnikov is interrogated first by local collaborator Portnov (Anatoli Solonitsyn), a former Soviet club-house director and children’s choirmaster who became the local head of the Belarusian Auxiliary Police, loyal to the Germans. When Sotnikov refuses to answer Portnov’s questions, he is brutally tortured by members of the collaborationist police, but gives up no information. However, Rybak tells as much as he thinks the police already know, hoping to live so he can escape later. Portnov offers him the job of policeman. The headman, now suspected of supporting the partisans, and Basya Meyer, the teen daughter of a Jewish shoemaker, are imprisoned in the same cellar for the night.
The next morning, all are led out to be hanged. Rybak accepts Portnov’s offer and the Germans let him join the police. Sotnikov and the others are executed.
As he heads back to the camp with his new comrades, Rybak is vilified by the villagers. Realizing what he has done, he tries to hang himself in the outhouse with his belt, but fails. A fellow policeman calls for Rybak until Rybak opens the door. The policeman tells him that their commander wants him and leaves him alone in the courtyard. Rybak stares out the open door and begins to laugh and weep.
Cast[edit]
- Boris Plotnikov as Sotnikov
- Vladimir Gostyukhin as Rybak
- Sergei Yakovlev as Village elder
- Lyudmila Polyakova as Demchikha
- Viktoriya Goldentul as Basya Meyer
- Anatoli Solonitsyn as Portnov, the collaborationist interrogator
- Maria Vinogradova as Village elder’s wife
- Nikolai Sektimenko as Stas’
Production[edit]
Pre-production[edit]
All motion pictures are personal but the desire to film The Ascent was almost a physical need. If I had not shot this picture it would have been a catastrophe for me. I could not find any other material with which I could transmit my views on life, on the meaning of life.
— Larisa Shepitko [5]
Before The Ascent, the director Larisa Shepitko shot the film You and Me. Production took place under an atmosphere of severe stress. Technical and organizational difficulties led to the necessity of calling an ambulance for the director’s health. The release of the film was not any easier; the censors deleted critical scenes and Shepitko had to fight for every single one of them. This struggle was not always successful. Despite the fact that the film was one of the prize winners at the Venice Film Festival, the removed scenes were a terrible blow to Shepitko, who believed that changing an important moment leads to the loss of main ideas.[6]
For Shepitko it was a difficult time after the film’s release. By her own admission, for a period of four months the director was in «a monstrous mental and physical exhaustion.» The realization of what was subsequently necessary came to her suddenly while she was recuperating at a Sochi sanatorium, but her creative plans were undermined by a disastrous fall, which resulted in a serious concussion and a spinal injury. For a few weeks Shepitko was confined to bed. The situation was also aggravated by the fact that she was pregnant, but she felt that during her pregnancy she came to understand the complexities of life more fully. Every day she was haunted by the possibility of death; reading the novel Sotnikov by Vasil Býkaŭ during this period helped Shepitko express this state on the silver screen.[6]
Screenplay[edit]
For the most part the screenplay written by Yuri Klepikov follows the novel. Shepitko turned to Klepikov on the recommendation of her classmate Natalia Ryazantseva but he was already busy working on another script. Klepikov did not refuse the commission, but he asked to postpone working on The Ascent for a week. Shepitko urged him to start work immediately and a single telephone conversation with her convinced him to drop everything he was doing. Klepikov, by his own admission, «could not withstand the energy of the typhoon whose name was Larisa,» and started the task of revising the literary foundation which he later described as «a piping philosophical parable which combined the high spirit of man with his obvious desire to keep the body as a receptacle of the spirit.»[7] The result of the work became a 70-page script that Shepitko then meticulously edited.[7][8] Shepitko practised the «engineer’s» approach: she did not tolerate uncertainty or haziness in work and did not rely on director’s improvisation or creative inspiration. Every frame, every remark, every scene was carefully checked and planned in advance. According to Yuri Klepikov even «the fruitful spontaneity was due to the very environment of the shoot,» which was ensured by the carefully crafted script.[9][10]
When adapting the script from Sotnikov the main concern of the director was not to lose the deeper philosophical content of the story. While the literary work by Býkaŭ was full of sensual details like «icy cold», «famine», «danger», Shepitko strongly discouraged attempts to be satisfied with external action and demanded an «internal justification» of each movement, gesture and glance of the heroes. In order to express the spiritual states she often had to deviate from the literary basis. For example, in the finale of the original story Rybak decides to hang himself in the latrine but discovers that he forgot to ask for the belt back which had been taken by the policemen an evening before. Theoretically, the film could portray the absence of the belt, but then — according to the writers — the scene would be limited to the designation of the circumstances: informative but unimpressive denial in terms of the artistic sense. The authors «returned» the belt to Rybak but he was deprived of the ability to hang himself; implying that even death refuses a traitor. Their idea was to leave Rybak alone with the knowledge of his fall. The following long close-up of majestic nature signified the freedom which Rybak desperately desires and was intended to emphasize the utmost despair «of a person who lost himself.»[9]
Shepitko’s husband Elem Klimov suggested the film’s title. Long before, in 1963, a tradition was established between the future spouses that for a good idea they would receive ten roubles. When they just started dating, Klimov came up with the name for Shepitko’s thesis film – Heat. Shepitko and Klimov decided to continue this playful approach of rewarding each other but after all the years of their union Klimov alone received the ten rouble reward and only twice: for Heat and for The Ascent.[11]
Beginning of production[edit]
The next step was the need for the script’s approval from the State Committee for Cinematography. By that time Shepitko had already gained a reputation of an inconvenient director. In 1973, when she raised the topic of making the film, the answer from an official of the State Committee for Cinematography was a firm negative.[12] The director did not spark a confrontation but she also did not offer any other projects.[6] Throughout her directing career, Shepitko only started working on a film if she felt that «if she does not do it, then she dies.»[13]
For help in overcoming the resistance of the authorities and the State Political Directorate, Shepitko turned to Gemma Firsova with whom she had studied at VGIK. Firsova was an administrator of an association of military-patriotic films. She was affected much more by the script than by the novel and the day she met Shepitko, she went to the meet the Minister of Cinematography Philippe Ermash. In a conversation with Ermash’s replacement (in her memoirs Firsova did not call Boris Pavlenok by his name), Firsova said that she took the script under her responsibility, with a lie that «everything will be fine with the State Political Directorate.» Ermash’s replacement reacted skeptically to the pleas, and the subsequent process from script approval to acceptance of the film’s actors was accompanied by considerable difficulties. The main accusation was that Shepitko allegedly made a religious parable with a mystical tone from the partisan story; this was considered an insurrection in the atheistic Soviet cinema.[12] Shepitko retorted that she was not religious and that a story about betrayal was antediluvian. According to her, Judas and Jesus had always existed and that if the legend connected with people then this means that it was alive in every person.[6] Officials met Schnittke’s score with resistance and they ordered that the allusions to biblical texts be removed.[14]
From the moment she read the story Sotnikov, it took Larisa Shepitko four years to prepare and to obtain permits from the authorities to begin shooting the picture.[15]
Casting[edit]
Shepitko decided to use unknown or little-known actors whose past roles would not cast a shadow on their characters in The Ascent. Because of this, she rejected Andrey Myagkov, who wanted to act in the picture. The same fate befell Nikolai Gubenko. Vladimir Vysotsky, who yearned to play Rybakov, also did not pass selection. At the time when the castings for The Ascent were taking place, Vysotsky was starring in the film The Negro of Peter the Great. Production of that film took place at the Mosfilm sound stage, adjacent to where the auditions were being held, and during his breaks Vysotsky often went to see what was happening at Shepitko’s sound stage.[16]
From the beginning of the search for the actor who would play Sotnikov, Larisa Shepitko instructed Emma Baskakova, her casting assistant, to keep in mind the image of Christ, although it was impossible to mention this out loud.[6] Boris Plotnikov, a 25-year-old actor of the Sverdlovsk Theater, turned out to be the best candidate for the role according to the director, but the officials of Goskino saw in Shepitko’s plan the intention to put Jesus on to the Soviet screen. Plotnikov, whose repertoire until then largely included the roles of magical animals,[17] even had to be made up for the purpose of greater glorification of the character so that the artistic council would approve him for the role. The actor went through seven test shots altogether for which he always had to fly to Moscow from Sverdlovsk.[18]
For the role of Rybak the director screened 20 candidates. The actor chosen for the role was the unknown actor Vladimir Gostyukhin.[8] Gostyukhin, who had worked for six years in the Soviet Army theater as a furniture and prop maker, had once replaced a sick actor in the play Unknown Soldier. His performance was noticed by Svetlana Klimova, who was the second unit director for Vasiliy Ordynski. Gostyukhin received an invitation to act in the series The Road to Calvary, where he played the role of the anarchist and bandit Krasilnikov for whom charisma and a strong temperament were required. It was while working that set that he was noticed by Larisa Shepitko’s assistants. Gostyukhin was invited to audition for the role of Rybak, but initially could not equate «a woman of great beauty [Sheptiko] with the super-masculine, tough and tragic story by Vasil Býkaŭ.» But after a 20-minute conversation with the director, he was convinced that only she could film the adaptation of this weighty book. Even so, Shepitko initially had doubts about the candidate, who even with his actor’s training, was still only a stage laborer. Plotnikov had immediately attracted the director with his constitution, smile, look and plasticity while Gostyukhin’s appearance did not coincide with how Shepitko saw Rybak: the young actor came to his audition with «frivolous» bangs which were uncharacteristic for a partisan. Gostyukhin’s rude manners initially alienated other members of the selection committee but Shepitko explained away his behavior as shyness and decided to audition the candidate who had already at the first rehearsal made a strong impression on everyone with his dedication in realizing the character.[16][17]
The actor for the role of Portnov was selected based on the image of Sotnikov. Larisa Shepitko wanted to find someone similar in external characteristics to Plotnikov, saying, «They are similar, but Portnov is an antipode to Sotnikov based on internal beliefs. This should be a very good actor. Their duel, yes, yes, the fight with Sotnikov — the eternal conflict, the everlasting battle between spirit and lack of spirituality … Dying, suffering Sotnikov wins because he is strong in spirit. He dies and rises above his tormentor.»
Anatoly Solonitsyn at first did not see anything interesting in what he thought of as a «supporting role», and which he considered a «rehash» of what had been filmed earlier. Initially, the actor did not even understand what was wanted of him despite the fact that he diligently played the «enemy,» a «man with a bruised heart,» or a «man without a future» as was required. But he felt that the character would turn out to be little but a caricature, as in cheap popular literature.[19][20] Only a long conversation with the director allowed him to understand her vision of Portnov: the personification of the negative side in the eternal history of man’s struggle with the animal inside himself in the name of the supreme value – namely, the value of the spirit. The director insisted that the Great Patriotic War was won by the Soviet people because of their high level of awareness, so Portnov’s «anti-hero» role was especially important because the character was supposed to emphasize the superiority of the human spirit’s power over matter.[6]
Filming[edit]
Filming began on Jan. 6, 1974 – the birthday of the director Shepitko (according to other sources filming began on January 5[21]) — in the vicinity of the town of Murom. The first scenes were shot on location in the middle of fields, forests and ravines despite the fact that the weather was forty degrees below zero. According to Boris Plotnikov the frost and the virginal snow were mandatory conditions which Vasil Býkaŭ had set out in his story.[18] This approach was endorsed by Larisa Shepitko, according to whom the actors had to «feel the winter all the way down to their very cells» for a more reliable way of entering the character.[6] Together with this, the filming process was planned in such a way that the actors started with the easiest acting in the psychological sense, and scenes which allowed them to gradually sink into their characters.[22]
From the outset Shepitko managed to inspire every co-worker with her idea; they understood the film to be about sacred things: motherland, higher values, conscience, duty and spiritual heroism. Her ability to enthrall her colleagues had already manifested before: Yuri Vizbor (lead actor in the movie You and Me) said: «We worked for Larisa, specifically, personally for her. She had faith and that was the reason. Faith in goodness and the need for our work, and it is this faith that was absolutely a material substance, which can be very real to rely on.»
In the harsh conditions in which the shoot took place, this factor was very important: extras and crew members were frostbitten, but no one complained. Shepitko herself did not ask for or require special treatment and her colleagues remembered her as an example of courage, faith, patience, and extraordinary care. For example, Boris Plotnikov was dressed very lightly and quickly grew numb from the cold and the piercing winds in the open field; but after the command «Stop! Cut!» the director came over to him to warm him up and to thank him. She also had to warm up Vladimir Gostyukhin who later wrote: «It was worth it “to die” in the scene to be able to feel her gratitude.» He said that almost no one knew what effort Shepitko gave when shooting each frame. Sometimes Gostyukhin had to carry the director from the car to the hotel room by himself: Shepitko was sometimes not very physically well and occasionally her strength weakened. Long before The Ascent, Shepitko became ill with hepatitis on the set of the movie Heat. Ignoring advice to go to Moscow, she went on to shoot the picture from a stretcher on which she was brought from the infectious barracks.[23] Moreover, Shepitko did not recuperate enough, and the consequences of the disease adversely affected her well-being in the future, in particular on the set of The Ascent. In addition she experienced extreme pain which was caused by her recent spinal trauma. But Shepitko still rose two to three hours before the crew to have time to prepare, after which she worked to the maximum limit of her capabilities throughout the day. For example, in one long scene, the partisans are running away with difficulty through the thick snow from their pursuers. On screen it was necessary to show the deadly fatigue of the flushed, panting people. To prevent hypocrisy in the scenes, the director ran alongside the actors while filming, experiencing their exhausted state with them.[15] With this dedication the shooting took place without interruption and was completed one month ahead of schedule.[18]
In order to achieve the desired performance from the actors, Shepitko sometimes talked for a long time with them out in the cold. For example, despite the crew’s full readiness, the director would talk for a long time with Boris Plotnikov, whose character she carefully directed during the filming. Shepitko’s habit of clearly stating her thoughts contributed to a successful transmission of information; she did not use abstruse terms that might mask the lack of clarity. [24] She waited for the necessary expression of emotion, for the right facial expression and gestures and then suddenly would give the order to start filming. Boris Plotnikov later said that he would have liked to repeat this experience in other films, but never did. On working with Shepitko, Plotnikov spoke of «a meeting with a living genius.» Vasil Býkaŭ also shared a similar opinion about the film’s director, he called her «Dostoevsky in a skirt.» Býkaŭ valued Larisa Shepitko very highly and once admitted that had he met her before, he would have written Sotnikov differently.[18]
Vladimir Gostyukhin described the filming process not as acting but as «death in every frame.» For him and Plotnikov it was extremely important to validate the director’s trust, since she had needed to defend their casting choices long and hard in front of the Soviet film authorities. Gostyukhin spoke of Shepitko’s ability to convey an idea to the actors, akin to hypnosis, under which he with Plotnikov — the newcomers to the film studio — could produce the «miracle of transformation.» During the first rehearsal Shepitko even sprayed their faces with snow. By the latter’s suggestion it was done to collect their attention and will and also to give texture and credibility to their characters. Later it became a kind of ritual, often preceding the next take on the film set.[15] Gostyukhin recalled that he transformed into Rybak to such a degree that even the made-up bruise only fell from his face after three weeks. After the film was shot the actor tried for such a long time to leave his role behind and to become himself again that he refused to star in Shepitko’s next planned film, entitled Farewell, despite her persistent requests.[16]
The production designer Yuriy Raksha later spoke about the situation as follows:
We started to work and began our unique existence along with the characters. I can say that the film matured us too. Speaking about the holy things, about categories of high spirituality, we were obligated to apply high standards to ourselves too. It was impossible to be one person on the set and to be another one in real life.
Release[edit]
The film was nearly banned: regulatory authorities believed that a «religious parable with a mystical tinge» was shot instead of a partisan story. The chances were very high that the film would be shelved, until Elem Klimov (the husband of Larisa Shepitko and also a film director by profession) decided to take a desperate step. While Klimov was preparing for the shooting of the film Kill Hitler (which was released under the title of Come and See in 1985), he met with Pyotr Masherov, the first secretary of the Communist Party of Belarus, who strongly supported the director and even acted as a historical consultant. During the war, the senior official was himself a partisan and moreover in 1942 the German occupiers hanged his mother for collaborating with the partisans.[6][23]
When Klimov, bypassing Mosfilm, invited Masherov to a special preview of The Ascent, Masherov initially was skeptical and was expecting to see «effeminate directorial work.» The still somewhat wet film was brought to Minsk directly from the lab, and Larisa Shepitko herself sat at the mixing console .[25] Twenty or thirty minutes after Masherov had started watching, he found he could not tear himself away from the screen, and by the middle of the movie he was crying, without hiding away from the republic’s leaders who were present in the hall. At the end of the film, Masherov — contrary to tradition (usually at such premieres opinions were heard first from the lower ranks and then from the highest) — came on stage and spoke for about forty minutes. His words were not recorded by anyone but Elem Klimov testified to his wife that his excited speech was one of the best he ever heard addressed. The Belarusian writer and veteran of the Great Patriotic War, Ales Adamovich, who was present at the screening, described Masherov as someone who questioned, «Where did this girl come from, who of course experienced nothing of the sort, but knows all about it, how could she express it like this?»[26] After a few days, The Ascent was formally accepted without any amendments.[6][23]
In July 2018, it was selected for screening in the Venice Classics section at the 75th Venice International Film Festival.[27]
See also[edit]
- List of submissions to the 50th Academy Awards for Best Foreign Language Film
- List of Soviet submissions for the Academy Award for Best Foreign Language Film
References[edit]
- ^ Peter Rollberg (2016). Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema. US: Rowman & Littlefield. pp. 65–66. ISBN 1442268425.
- ^ И жизнь, и слезы, и любовь. Bulvar magazine. 3 January 2013. Retrieved 22 May 2015.
- ^ «Berlinale 1977 — Filmdatenblatt». Archiv der Internationale Filmfestspiele in Berlin. 1977. Retrieved 2010-02-27.
- ^ Margaret Herrick Library, Academy of Motion Picture Arts and Sciences
- ^ Klimov 1987.
- ^ a b c d e f g h i Валентина Хованская. Лариса. Воспоминания о работе с Ларисой Шепитько (in Russian). Archived from the original on 2015-04-19. Retrieved 2013-05-30.
- ^ a b Климов 1987, p. 93.
- ^ a b Восхождение (1976) (in Russian). Энциклопедия отечественного кино.
- ^ a b Климов 1987, p. 94.
- ^ Климов 1987, p. 95.
- ^ Климов 1987, p. 18.
- ^ a b Гибель режиссёра Ларисы Шепитько (in Russian). Официальный сайт Льва Дурова. Archived from the original on 2013-06-22. Retrieved 2013-05-31.
- ^ Марина Базавлук. Восхождение (in Russian). История кино. Archived from the original on 2012-12-11. Retrieved 2013-05-31.
- ^ Gemma Firsova (December 2006). Предупреждение. О Ларисе Шепитько (in Russian). Искусство кино. Archived from the original on 2013-03-17. Retrieved 2013-05-31.
- ^ a b c Владимир Гостюхин (записал Ю. Коршак). Снегом обожженное лицо (in Russian). История кино. Archived from the original on 2012-12-11. Retrieved 2013-06-07.
- ^ a b c Анжелика Заозерская (2011-07-21). Актёр Владимир Гостюхин: Самая ранимая и зависимая – это профессия артиста (in Russian). Театрал. Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2013-06-04.
- ^ a b Юрий Тюрин. Владимир Гостюхин. Творческая биография (in Russian). Русское кино. Archived from the original on 2013-04-26. Retrieved 2013-06-04.
- ^ a b c d И жизнь, и слёзы, и любовь (in Russian). Бульвар Гордона. 2013-01-13. Archived from the original on 2013-06-27. Retrieved 2013-05-31.
- ^ Климов 1987, p. 62.
- ^ Климов 1987, p. 63.
- ^ Климов 1987, p. 50.
- ^ Климов 1987, p. 51.
- ^ a b c Ивойлова И. (2003). Восхождение (in Russian). М.: Труд.
- ^ Климов 1987, p. 41.
- ^ Климов 1987, p. 12.
- ^ Климов 1987, p. 15.
- ^ «Biennale Cinema 2018, Venice Classics». labiennale.org. Retrieved 22 July 2018.
Literature[edit]
- Klimov, Elem (1987). Лариса: книга о Ларисе Шепитько [Larisa: book about Larisa Shepitko] (in Russian). Moscow: Iskusstvo. p. 290.
- Klimov, Hermann; Murzina, Marina; Plahov, Andrei; Fomina, Raisa (2008). Элем Климов. Неснятое кино [Elem Klimov. Unshot cinema] (in Russian). Moscow: Chroniqueur. p. 384. ISBN 978-5-901238-52-3.
External links[edit]
- The Ascent at IMDb
- The Ascent at AllMovie
- The Ascent at Turner Classic Movies
- The Ascent at the official Mosfilm site with English subtitles
- The Ascent: Out in the Cold an essay by Fanny Howe at the Criterion Collection
| The Ascent | |
|---|---|
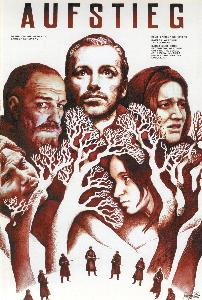
German poster — (left to right) Rybak, the village headman, Sotnikov, Basya, Demchikha |
|
| Directed by | Larisa Shepitko |
| Written by | Vasil Bykaŭ (novel) Yuri Klepikov Larisa Shepitko |
| Based on | Sotnikov by Vasil Bykaŭ |
| Starring | Boris Plotnikov Vladimir Gostyukhin Sergei Yakovlev Lyudmila Polyakova Anatoli Solonitsyn |
| Cinematography | Vladimir Chukhnov Pavel Lebeshev |
| Music by | Alfred Schnittke |
|
Production |
Mosfilm |
|
Release date |
|
|
Running time |
111 minutes |
| Country | Soviet Union |
| Languages | Russian German |
The Ascent (Russian: Восхождение, tr. Voskhozhdeniye, literally — The Ascension) is a 1977 black-and-white Soviet drama film directed by Larisa Shepitko and made at Mosfilm.[1] The movie was shot in January 1974 near Murom, Vladimir Oblast, Russia, in appalling winter conditions, as required by the script, based on the novel Sotnikov by Vasil Bykaŭ.[2] It was Shepitko’s last film before her death in a car accident in 1979. The film won the Golden Bear award at the 27th Berlin International Film Festival in 1977.[3] It was also selected as the Soviet entry for the Best Foreign Language Film at the 50th Academy Awards, but was not accepted as a nominee.[4]
Plot[edit]
During the Great Patriotic War (World War II), two Soviet partisans go to a Belarusian village in search of food. After taking a farm animal from the collaborationist headman (Sergei Yakovlev), they head back to their unit, but are spotted by a German patrol. After a protracted gunfight in the snow in which one of the Germans is killed, the two men get away, but Sotnikov (Boris Plotnikov) is shot in the leg. Rybak (Vladimir Gostyukhin) has to take him to the nearest shelter, the home of Demchikha (Lyudmila Polyakova), the mother of three young children. However, they are discovered and captured.
The two men and a sobbing Demchikha are taken to the German headquarters. Sotnikov is interrogated first by local collaborator Portnov (Anatoli Solonitsyn), a former Soviet club-house director and children’s choirmaster who became the local head of the Belarusian Auxiliary Police, loyal to the Germans. When Sotnikov refuses to answer Portnov’s questions, he is brutally tortured by members of the collaborationist police, but gives up no information. However, Rybak tells as much as he thinks the police already know, hoping to live so he can escape later. Portnov offers him the job of policeman. The headman, now suspected of supporting the partisans, and Basya Meyer, the teen daughter of a Jewish shoemaker, are imprisoned in the same cellar for the night.
The next morning, all are led out to be hanged. Rybak accepts Portnov’s offer and the Germans let him join the police. Sotnikov and the others are executed.
As he heads back to the camp with his new comrades, Rybak is vilified by the villagers. Realizing what he has done, he tries to hang himself in the outhouse with his belt, but fails. A fellow policeman calls for Rybak until Rybak opens the door. The policeman tells him that their commander wants him and leaves him alone in the courtyard. Rybak stares out the open door and begins to laugh and weep.
Cast[edit]
- Boris Plotnikov as Sotnikov
- Vladimir Gostyukhin as Rybak
- Sergei Yakovlev as Village elder
- Lyudmila Polyakova as Demchikha
- Viktoriya Goldentul as Basya Meyer
- Anatoli Solonitsyn as Portnov, the collaborationist interrogator
- Maria Vinogradova as Village elder’s wife
- Nikolai Sektimenko as Stas’
Production[edit]
Pre-production[edit]
All motion pictures are personal but the desire to film The Ascent was almost a physical need. If I had not shot this picture it would have been a catastrophe for me. I could not find any other material with which I could transmit my views on life, on the meaning of life.
— Larisa Shepitko [5]
Before The Ascent, the director Larisa Shepitko shot the film You and Me. Production took place under an atmosphere of severe stress. Technical and organizational difficulties led to the necessity of calling an ambulance for the director’s health. The release of the film was not any easier; the censors deleted critical scenes and Shepitko had to fight for every single one of them. This struggle was not always successful. Despite the fact that the film was one of the prize winners at the Venice Film Festival, the removed scenes were a terrible blow to Shepitko, who believed that changing an important moment leads to the loss of main ideas.[6]
For Shepitko it was a difficult time after the film’s release. By her own admission, for a period of four months the director was in «a monstrous mental and physical exhaustion.» The realization of what was subsequently necessary came to her suddenly while she was recuperating at a Sochi sanatorium, but her creative plans were undermined by a disastrous fall, which resulted in a serious concussion and a spinal injury. For a few weeks Shepitko was confined to bed. The situation was also aggravated by the fact that she was pregnant, but she felt that during her pregnancy she came to understand the complexities of life more fully. Every day she was haunted by the possibility of death; reading the novel Sotnikov by Vasil Býkaŭ during this period helped Shepitko express this state on the silver screen.[6]
Screenplay[edit]
For the most part the screenplay written by Yuri Klepikov follows the novel. Shepitko turned to Klepikov on the recommendation of her classmate Natalia Ryazantseva but he was already busy working on another script. Klepikov did not refuse the commission, but he asked to postpone working on The Ascent for a week. Shepitko urged him to start work immediately and a single telephone conversation with her convinced him to drop everything he was doing. Klepikov, by his own admission, «could not withstand the energy of the typhoon whose name was Larisa,» and started the task of revising the literary foundation which he later described as «a piping philosophical parable which combined the high spirit of man with his obvious desire to keep the body as a receptacle of the spirit.»[7] The result of the work became a 70-page script that Shepitko then meticulously edited.[7][8] Shepitko practised the «engineer’s» approach: she did not tolerate uncertainty or haziness in work and did not rely on director’s improvisation or creative inspiration. Every frame, every remark, every scene was carefully checked and planned in advance. According to Yuri Klepikov even «the fruitful spontaneity was due to the very environment of the shoot,» which was ensured by the carefully crafted script.[9][10]
When adapting the script from Sotnikov the main concern of the director was not to lose the deeper philosophical content of the story. While the literary work by Býkaŭ was full of sensual details like «icy cold», «famine», «danger», Shepitko strongly discouraged attempts to be satisfied with external action and demanded an «internal justification» of each movement, gesture and glance of the heroes. In order to express the spiritual states she often had to deviate from the literary basis. For example, in the finale of the original story Rybak decides to hang himself in the latrine but discovers that he forgot to ask for the belt back which had been taken by the policemen an evening before. Theoretically, the film could portray the absence of the belt, but then — according to the writers — the scene would be limited to the designation of the circumstances: informative but unimpressive denial in terms of the artistic sense. The authors «returned» the belt to Rybak but he was deprived of the ability to hang himself; implying that even death refuses a traitor. Their idea was to leave Rybak alone with the knowledge of his fall. The following long close-up of majestic nature signified the freedom which Rybak desperately desires and was intended to emphasize the utmost despair «of a person who lost himself.»[9]
Shepitko’s husband Elem Klimov suggested the film’s title. Long before, in 1963, a tradition was established between the future spouses that for a good idea they would receive ten roubles. When they just started dating, Klimov came up with the name for Shepitko’s thesis film – Heat. Shepitko and Klimov decided to continue this playful approach of rewarding each other but after all the years of their union Klimov alone received the ten rouble reward and only twice: for Heat and for The Ascent.[11]
Beginning of production[edit]
The next step was the need for the script’s approval from the State Committee for Cinematography. By that time Shepitko had already gained a reputation of an inconvenient director. In 1973, when she raised the topic of making the film, the answer from an official of the State Committee for Cinematography was a firm negative.[12] The director did not spark a confrontation but she also did not offer any other projects.[6] Throughout her directing career, Shepitko only started working on a film if she felt that «if she does not do it, then she dies.»[13]
For help in overcoming the resistance of the authorities and the State Political Directorate, Shepitko turned to Gemma Firsova with whom she had studied at VGIK. Firsova was an administrator of an association of military-patriotic films. She was affected much more by the script than by the novel and the day she met Shepitko, she went to the meet the Minister of Cinematography Philippe Ermash. In a conversation with Ermash’s replacement (in her memoirs Firsova did not call Boris Pavlenok by his name), Firsova said that she took the script under her responsibility, with a lie that «everything will be fine with the State Political Directorate.» Ermash’s replacement reacted skeptically to the pleas, and the subsequent process from script approval to acceptance of the film’s actors was accompanied by considerable difficulties. The main accusation was that Shepitko allegedly made a religious parable with a mystical tone from the partisan story; this was considered an insurrection in the atheistic Soviet cinema.[12] Shepitko retorted that she was not religious and that a story about betrayal was antediluvian. According to her, Judas and Jesus had always existed and that if the legend connected with people then this means that it was alive in every person.[6] Officials met Schnittke’s score with resistance and they ordered that the allusions to biblical texts be removed.[14]
From the moment she read the story Sotnikov, it took Larisa Shepitko four years to prepare and to obtain permits from the authorities to begin shooting the picture.[15]
Casting[edit]
Shepitko decided to use unknown or little-known actors whose past roles would not cast a shadow on their characters in The Ascent. Because of this, she rejected Andrey Myagkov, who wanted to act in the picture. The same fate befell Nikolai Gubenko. Vladimir Vysotsky, who yearned to play Rybakov, also did not pass selection. At the time when the castings for The Ascent were taking place, Vysotsky was starring in the film The Negro of Peter the Great. Production of that film took place at the Mosfilm sound stage, adjacent to where the auditions were being held, and during his breaks Vysotsky often went to see what was happening at Shepitko’s sound stage.[16]
From the beginning of the search for the actor who would play Sotnikov, Larisa Shepitko instructed Emma Baskakova, her casting assistant, to keep in mind the image of Christ, although it was impossible to mention this out loud.[6] Boris Plotnikov, a 25-year-old actor of the Sverdlovsk Theater, turned out to be the best candidate for the role according to the director, but the officials of Goskino saw in Shepitko’s plan the intention to put Jesus on to the Soviet screen. Plotnikov, whose repertoire until then largely included the roles of magical animals,[17] even had to be made up for the purpose of greater glorification of the character so that the artistic council would approve him for the role. The actor went through seven test shots altogether for which he always had to fly to Moscow from Sverdlovsk.[18]
For the role of Rybak the director screened 20 candidates. The actor chosen for the role was the unknown actor Vladimir Gostyukhin.[8] Gostyukhin, who had worked for six years in the Soviet Army theater as a furniture and prop maker, had once replaced a sick actor in the play Unknown Soldier. His performance was noticed by Svetlana Klimova, who was the second unit director for Vasiliy Ordynski. Gostyukhin received an invitation to act in the series The Road to Calvary, where he played the role of the anarchist and bandit Krasilnikov for whom charisma and a strong temperament were required. It was while working that set that he was noticed by Larisa Shepitko’s assistants. Gostyukhin was invited to audition for the role of Rybak, but initially could not equate «a woman of great beauty [Sheptiko] with the super-masculine, tough and tragic story by Vasil Býkaŭ.» But after a 20-minute conversation with the director, he was convinced that only she could film the adaptation of this weighty book. Even so, Shepitko initially had doubts about the candidate, who even with his actor’s training, was still only a stage laborer. Plotnikov had immediately attracted the director with his constitution, smile, look and plasticity while Gostyukhin’s appearance did not coincide with how Shepitko saw Rybak: the young actor came to his audition with «frivolous» bangs which were uncharacteristic for a partisan. Gostyukhin’s rude manners initially alienated other members of the selection committee but Shepitko explained away his behavior as shyness and decided to audition the candidate who had already at the first rehearsal made a strong impression on everyone with his dedication in realizing the character.[16][17]
The actor for the role of Portnov was selected based on the image of Sotnikov. Larisa Shepitko wanted to find someone similar in external characteristics to Plotnikov, saying, «They are similar, but Portnov is an antipode to Sotnikov based on internal beliefs. This should be a very good actor. Their duel, yes, yes, the fight with Sotnikov — the eternal conflict, the everlasting battle between spirit and lack of spirituality … Dying, suffering Sotnikov wins because he is strong in spirit. He dies and rises above his tormentor.»
Anatoly Solonitsyn at first did not see anything interesting in what he thought of as a «supporting role», and which he considered a «rehash» of what had been filmed earlier. Initially, the actor did not even understand what was wanted of him despite the fact that he diligently played the «enemy,» a «man with a bruised heart,» or a «man without a future» as was required. But he felt that the character would turn out to be little but a caricature, as in cheap popular literature.[19][20] Only a long conversation with the director allowed him to understand her vision of Portnov: the personification of the negative side in the eternal history of man’s struggle with the animal inside himself in the name of the supreme value – namely, the value of the spirit. The director insisted that the Great Patriotic War was won by the Soviet people because of their high level of awareness, so Portnov’s «anti-hero» role was especially important because the character was supposed to emphasize the superiority of the human spirit’s power over matter.[6]
Filming[edit]
Filming began on Jan. 6, 1974 – the birthday of the director Shepitko (according to other sources filming began on January 5[21]) — in the vicinity of the town of Murom. The first scenes were shot on location in the middle of fields, forests and ravines despite the fact that the weather was forty degrees below zero. According to Boris Plotnikov the frost and the virginal snow were mandatory conditions which Vasil Býkaŭ had set out in his story.[18] This approach was endorsed by Larisa Shepitko, according to whom the actors had to «feel the winter all the way down to their very cells» for a more reliable way of entering the character.[6] Together with this, the filming process was planned in such a way that the actors started with the easiest acting in the psychological sense, and scenes which allowed them to gradually sink into their characters.[22]
From the outset Shepitko managed to inspire every co-worker with her idea; they understood the film to be about sacred things: motherland, higher values, conscience, duty and spiritual heroism. Her ability to enthrall her colleagues had already manifested before: Yuri Vizbor (lead actor in the movie You and Me) said: «We worked for Larisa, specifically, personally for her. She had faith and that was the reason. Faith in goodness and the need for our work, and it is this faith that was absolutely a material substance, which can be very real to rely on.»
In the harsh conditions in which the shoot took place, this factor was very important: extras and crew members were frostbitten, but no one complained. Shepitko herself did not ask for or require special treatment and her colleagues remembered her as an example of courage, faith, patience, and extraordinary care. For example, Boris Plotnikov was dressed very lightly and quickly grew numb from the cold and the piercing winds in the open field; but after the command «Stop! Cut!» the director came over to him to warm him up and to thank him. She also had to warm up Vladimir Gostyukhin who later wrote: «It was worth it “to die” in the scene to be able to feel her gratitude.» He said that almost no one knew what effort Shepitko gave when shooting each frame. Sometimes Gostyukhin had to carry the director from the car to the hotel room by himself: Shepitko was sometimes not very physically well and occasionally her strength weakened. Long before The Ascent, Shepitko became ill with hepatitis on the set of the movie Heat. Ignoring advice to go to Moscow, she went on to shoot the picture from a stretcher on which she was brought from the infectious barracks.[23] Moreover, Shepitko did not recuperate enough, and the consequences of the disease adversely affected her well-being in the future, in particular on the set of The Ascent. In addition she experienced extreme pain which was caused by her recent spinal trauma. But Shepitko still rose two to three hours before the crew to have time to prepare, after which she worked to the maximum limit of her capabilities throughout the day. For example, in one long scene, the partisans are running away with difficulty through the thick snow from their pursuers. On screen it was necessary to show the deadly fatigue of the flushed, panting people. To prevent hypocrisy in the scenes, the director ran alongside the actors while filming, experiencing their exhausted state with them.[15] With this dedication the shooting took place without interruption and was completed one month ahead of schedule.[18]
In order to achieve the desired performance from the actors, Shepitko sometimes talked for a long time with them out in the cold. For example, despite the crew’s full readiness, the director would talk for a long time with Boris Plotnikov, whose character she carefully directed during the filming. Shepitko’s habit of clearly stating her thoughts contributed to a successful transmission of information; she did not use abstruse terms that might mask the lack of clarity. [24] She waited for the necessary expression of emotion, for the right facial expression and gestures and then suddenly would give the order to start filming. Boris Plotnikov later said that he would have liked to repeat this experience in other films, but never did. On working with Shepitko, Plotnikov spoke of «a meeting with a living genius.» Vasil Býkaŭ also shared a similar opinion about the film’s director, he called her «Dostoevsky in a skirt.» Býkaŭ valued Larisa Shepitko very highly and once admitted that had he met her before, he would have written Sotnikov differently.[18]
Vladimir Gostyukhin described the filming process not as acting but as «death in every frame.» For him and Plotnikov it was extremely important to validate the director’s trust, since she had needed to defend their casting choices long and hard in front of the Soviet film authorities. Gostyukhin spoke of Shepitko’s ability to convey an idea to the actors, akin to hypnosis, under which he with Plotnikov — the newcomers to the film studio — could produce the «miracle of transformation.» During the first rehearsal Shepitko even sprayed their faces with snow. By the latter’s suggestion it was done to collect their attention and will and also to give texture and credibility to their characters. Later it became a kind of ritual, often preceding the next take on the film set.[15] Gostyukhin recalled that he transformed into Rybak to such a degree that even the made-up bruise only fell from his face after three weeks. After the film was shot the actor tried for such a long time to leave his role behind and to become himself again that he refused to star in Shepitko’s next planned film, entitled Farewell, despite her persistent requests.[16]
The production designer Yuriy Raksha later spoke about the situation as follows:
We started to work and began our unique existence along with the characters. I can say that the film matured us too. Speaking about the holy things, about categories of high spirituality, we were obligated to apply high standards to ourselves too. It was impossible to be one person on the set and to be another one in real life.
Release[edit]
The film was nearly banned: regulatory authorities believed that a «religious parable with a mystical tinge» was shot instead of a partisan story. The chances were very high that the film would be shelved, until Elem Klimov (the husband of Larisa Shepitko and also a film director by profession) decided to take a desperate step. While Klimov was preparing for the shooting of the film Kill Hitler (which was released under the title of Come and See in 1985), he met with Pyotr Masherov, the first secretary of the Communist Party of Belarus, who strongly supported the director and even acted as a historical consultant. During the war, the senior official was himself a partisan and moreover in 1942 the German occupiers hanged his mother for collaborating with the partisans.[6][23]
When Klimov, bypassing Mosfilm, invited Masherov to a special preview of The Ascent, Masherov initially was skeptical and was expecting to see «effeminate directorial work.» The still somewhat wet film was brought to Minsk directly from the lab, and Larisa Shepitko herself sat at the mixing console .[25] Twenty or thirty minutes after Masherov had started watching, he found he could not tear himself away from the screen, and by the middle of the movie he was crying, without hiding away from the republic’s leaders who were present in the hall. At the end of the film, Masherov — contrary to tradition (usually at such premieres opinions were heard first from the lower ranks and then from the highest) — came on stage and spoke for about forty minutes. His words were not recorded by anyone but Elem Klimov testified to his wife that his excited speech was one of the best he ever heard addressed. The Belarusian writer and veteran of the Great Patriotic War, Ales Adamovich, who was present at the screening, described Masherov as someone who questioned, «Where did this girl come from, who of course experienced nothing of the sort, but knows all about it, how could she express it like this?»[26] After a few days, The Ascent was formally accepted without any amendments.[6][23]
In July 2018, it was selected for screening in the Venice Classics section at the 75th Venice International Film Festival.[27]
See also[edit]
- List of submissions to the 50th Academy Awards for Best Foreign Language Film
- List of Soviet submissions for the Academy Award for Best Foreign Language Film
References[edit]
- ^ Peter Rollberg (2016). Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema. US: Rowman & Littlefield. pp. 65–66. ISBN 1442268425.
- ^ И жизнь, и слезы, и любовь. Bulvar magazine. 3 January 2013. Retrieved 22 May 2015.
- ^ «Berlinale 1977 — Filmdatenblatt». Archiv der Internationale Filmfestspiele in Berlin. 1977. Retrieved 2010-02-27.
- ^ Margaret Herrick Library, Academy of Motion Picture Arts and Sciences
- ^ Klimov 1987.
- ^ a b c d e f g h i Валентина Хованская. Лариса. Воспоминания о работе с Ларисой Шепитько (in Russian). Archived from the original on 2015-04-19. Retrieved 2013-05-30.
- ^ a b Климов 1987, p. 93.
- ^ a b Восхождение (1976) (in Russian). Энциклопедия отечественного кино.
- ^ a b Климов 1987, p. 94.
- ^ Климов 1987, p. 95.
- ^ Климов 1987, p. 18.
- ^ a b Гибель режиссёра Ларисы Шепитько (in Russian). Официальный сайт Льва Дурова. Archived from the original on 2013-06-22. Retrieved 2013-05-31.
- ^ Марина Базавлук. Восхождение (in Russian). История кино. Archived from the original on 2012-12-11. Retrieved 2013-05-31.
- ^ Gemma Firsova (December 2006). Предупреждение. О Ларисе Шепитько (in Russian). Искусство кино. Archived from the original on 2013-03-17. Retrieved 2013-05-31.
- ^ a b c Владимир Гостюхин (записал Ю. Коршак). Снегом обожженное лицо (in Russian). История кино. Archived from the original on 2012-12-11. Retrieved 2013-06-07.
- ^ a b c Анжелика Заозерская (2011-07-21). Актёр Владимир Гостюхин: Самая ранимая и зависимая – это профессия артиста (in Russian). Театрал. Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2013-06-04.
- ^ a b Юрий Тюрин. Владимир Гостюхин. Творческая биография (in Russian). Русское кино. Archived from the original on 2013-04-26. Retrieved 2013-06-04.
- ^ a b c d И жизнь, и слёзы, и любовь (in Russian). Бульвар Гордона. 2013-01-13. Archived from the original on 2013-06-27. Retrieved 2013-05-31.
- ^ Климов 1987, p. 62.
- ^ Климов 1987, p. 63.
- ^ Климов 1987, p. 50.
- ^ Климов 1987, p. 51.
- ^ a b c Ивойлова И. (2003). Восхождение (in Russian). М.: Труд.
- ^ Климов 1987, p. 41.
- ^ Климов 1987, p. 12.
- ^ Климов 1987, p. 15.
- ^ «Biennale Cinema 2018, Venice Classics». labiennale.org. Retrieved 22 July 2018.
Literature[edit]
- Klimov, Elem (1987). Лариса: книга о Ларисе Шепитько [Larisa: book about Larisa Shepitko] (in Russian). Moscow: Iskusstvo. p. 290.
- Klimov, Hermann; Murzina, Marina; Plahov, Andrei; Fomina, Raisa (2008). Элем Климов. Неснятое кино [Elem Klimov. Unshot cinema] (in Russian). Moscow: Chroniqueur. p. 384. ISBN 978-5-901238-52-3.
External links[edit]
- The Ascent at IMDb
- The Ascent at AllMovie
- The Ascent at Turner Classic Movies
- The Ascent at the official Mosfilm site with English subtitles
- The Ascent: Out in the Cold an essay by Fanny Howe at the Criterion Collection
Фильмов о войне снято много. Они прочно вошли в сокровищницу нашего национального культурного наследия. Эти фильмы сохраняют героическую картину великого народного подвига. Кинематографисты всех поколений обращались в своем творчестве к теме Великой Отечественной войны.
Владимирская земля не видела военных действий, здесь не шли ожесточенные бои. Но некоторые режиссеры выбрали ее съемочной площадкой для своих фильмов.
События Великой Отечественной войны отражены в фильмах: «Баллада о солдате», «Живые и мертвые», «Мальчишки ехали на фронт», «Восхождение», «Битва за Москву», «И была война» и др.
К 75-летию Победы предлагаем вам цикл рассказов о некоторых из них.
Продолжение. Начало смотри здесь
В муромских лесах. Главный фильм Ларисы Шепитько: «Восхождение» (1976)
Лариса Шепитько стала самой знаменитой на Западе женщиной-режиссером Советского Союза, когда сняла фильм о войне. Все удивлялись, что такую жесткую картину сделала женщина и говорили о ее мужской руке. «Восхождение» — первая советская картина, удостоившаяся главного приза «Золотой медведь» на Международном кинофестивале в Берлине. Было это в 1977 году…
Шепитько начала готовить картину, когда еще даже не было принято решение о запуске фильма. Последнее заседание, где могла решиться судьба картины, состоялось 30 декабря 1975 года. Возможно, на положительный ответ повлияло предновогоднее настроение, которое смягчило решение голосующих.
Подбор актеров на роли, для того чтобы воплотить все задумки режиссера, процесс трудный и сложный. Шепитько начала искать исполнителей на главные роли. Вернее сказать, исполнителя на роль Сотникова. «Лариса была человек верующий, — рассказывает второй режиссер Валентина Хованская, — она не просто так делала эту картину. Она считала, что люди должны быть христианами. Она нам говорила — «Образ Христа», и просила, чтобы мы нашли актера, который бы соответствовал такому образу». Найти актера, похожего на Иисуса Христа, было не просто. Было отсмотрено почти пятьсот человек, но никто ее не устраивал, и если бы не художник Юрий Ракша, то поиски могли вообще не увенчаться успехом.
Из воспоминаний художника-постановщика Юрия Ракши: «Шепитько давно приглашала меня работать с ней, да все как-то не получалось. Меня постоянно влекла к себе моя живопись. Однако, когда я прочел ее режиссерский сценарий по повести Василя Быкова «Сотников», он так потряс меня, так тронул глубокой драматургией, что я тут же принялся за эскиз. Это был портрет главного героя, партизана Сотникова, его лицо в кульминационный момент жизни, перед казнью, перед смертью и бессмертием». По этому эскизу и искали актера на роль. В Свердловском театре юного зрителя, на стене с фотографиями актеров, помощники Шепитько увидели лицо худого человека с огромными глазами. Это был 25-летний Борис Плотников.
Ракша Ю. Портрет Сотникова. Эскиз
Актер Борис Плотников. Кадр из фильма «Восхождение»
За несколько выездов в Москву на кинопробы Борис Плотников сыграл почти всю роль, но с разными партнерами. Шепитько не сомневалась в своем выборе, она просто искала других героев под Плотникова.
Кадр из фильма «Восхождение»
На роль старосты был приглашен Сергей Яковлев. По совету своего мужа Элема Климова на роль Демчихи Шепитько взяла Людмилу Полякову. В одной из московских школ нашли девочку на роль Баси — Викторию Гольдентул.
Для Владимира Гостюхина, работавшего тогда в Театре Советской Армии, это был подарок судьбы. «Шепитько произвела на меня фантастическое впечатление при первой встрече на киностудии «Мосфильм». Я подумал, как такая хрупкая, красивая женщина будет снимать такой жесткий военный фильм. На роль Рыбака я был 21-м. По пробам первого дня я был сразу же утвержден на роль».
В январе 1976 киногруппа выехала в экспедицию в Муром на съемки фильма под названием «Сотников». В это же время ударили сильные морозы. Съемки проходили в тяжелейших условиях, но актеры терпели ради достоверности.
Муромский рабочий. — 1976. — 9 янв. — С. 4.
Съемки в Муроме. 1976 год. Фото В. Шибанова
О съемках в Муроме вспоминает Владимир Гостюхин: «Нас с Борисом Плотниковым Лариса постепенно погружала в фильм, она наблюдала за нами. Мы были вызваны заранее, за 2 недели до съемок. Мы были одеты в костюмы наших героев и каждый день в городе Муром, где проходили съемки, мы ходили в этих костюмах, а она наблюдала за нами. Она видела, что мы «созреваем, созреваем». И команда «Мотор» прозвучала именно тогда, когда она почувствовала, что Борис Плотников стал Сотниковым, а я стал Рыбаком. Она начинала не с главных сцен, а с проходов, дальних планов. Она понимала, что мы еще «сырые», и когда она увидела, что мы готовы, начала уже тогда снимать важные, сложные сцены и крупные планы. Вот тогда пошел настоящий, мощный процесс создания картины».
«Мы снимались в неимоверном напряжении, — рассказывает Борис Плотников. Я сильно похудел на этом фильме. В последние дни весил примерно 53 кг. Главная битва, конечно, была с морозом».
Виктория Гольдентул в роли Баси. Кадр из фильма «Восхождение»
«Мне было 12 лет, — вспоминает исполнительница роли Баси Виктория Гольдентул. Я думала, что кино — это все понарошку. На самом деле, там были страшные морозы, и это было все по-настоящему. В сцене казни я не доставала до петли. Тогда на скамейку подставили ящик. Скамейка была очень скользкой. И у меня был небольшой страх, я все думала, что этот ящик соскользнет».
В течение всего съемочного периода, фактически до апреля 1976 года, Лариса снимала самую важную для фильма сцену с мальчиком в буденовке. Способность воздействовать на людей, передавать энергию одним лишь взглядом — всеми этими качествами Шепитько хотела наделить Сотникова. В сцене казни он пристально вглядывается в толпу, ищет человека, которому можно передать свою боль, свой духовный опыт, и находит. Идет мощный диалог взглядов через поколения. Крупный план этого эпизода никак не получался. По воспоминаниям Валентины Хованской, его переснимали 17 раз. Завещав свой духовный опыт мальчишке, Сотников сознательно идет на виселицу.
Кадр из фильма «Восхождение»
Полное погружение, умение не сыграть, а прожить роль. Именно так у Шепитько играли все актеры.
Хочется еще добавить, что в съемках принимали участие актер Сергей Федоров, ранее игравший во владимирском театре драмы им. Луначарского, и владимирская актриса Алла Наумова.
Фильм был закончен раньше срока. Ларису обвинили в том, что она из партизанской повести сделала религиозную притчу с мистическим оттенком. Одного этого обвинения было достаточно, чтобы положить картину на полку. И тогда Шепитько обратилась за помощью к первому секретарю ЦК компартии Белоруссии, фронтовику П. Машерову. Показ фильма состоялся в просмотровом зале Белорусского Госкино в Минске. Машеров был потрясен, даже расплакался после просмотра и обещал всяческую поддержку Шепитько. Он позвонил в Москву первому секретарю Московского горкома В. Гришину и поздравил с творческим успехом коллектив киногруппы «Восхождение». По возвращении в Москву к картине было уже другое отношение. В 1977 году фильм был показан на Берлинском кинофестивале…
О работе над фильмом, о своем отношении к нему Лариса Шепитько расскажет в 1978 году на Баварском ТВ: «Вся история создания последней картины – это удивительный роман, драматический. Фильм «Восхождение», который мы снимали последний раз, был таков, что его снять как обычный рядовой фильм было просто нельзя. Природные условия были ужасными: минус 40 градусов, ветры, чудовищная метель. Актеры отказывались одевать что-то потеплее, потому что они хотели пережить те же условия, которые были 30 лет тому назад в 41 году. Поэтому они на этой лютой стуже работали практически без одежды. Однажды произошла удивительная история, от которой я потом долго не могла отойти. Мы снимали эпизод «Прохождение автоколонны», во время которого в снегу, в сугробах прятались население и партизанский отряд, который спас мирных жителей. Они все терпеливо дожидались, когда колонна пройдет мимо них. Но как это часто бывает на съемках, моторы не работали, глохли. Люди сидели в сугробах, мы предлагали им покинуть место и погреться, но они понимали, что на это уйдет очень много времени и отказывались, сидели там до конца. И, практически, совершили чудо героизма, то, что они снялись в этот день. Следующий эпизод был через несколько дней. Мы снимали в лесу. Понадобилось снять детали рук детей, стариков, тех, кто ел зерно в эпизоде «Стоянки в поле».
Стоянка в поле. Кадр из фильма «Восхождение»
Я попросила показать руки, мы подбирали их по выразительности. И к моему ужасу я увидела, что почти все руки, которые показывали взрослые люди, а самое главное, дети и женщины, у них все пальчики были в черных точечках. Я не поняла, что это такое и спросила: “Почему у вас черные пальцы?” И мне мальчик один, лет двенадцати, сказал: “Ну, это мы отморозили, когда снимались две недели назад, в том эпизоде”. Я говорю: “А почему же вы не сказали, что вам холодно?” Он говорит: “Но, ведь, актеры же работали тоже без перчаток, но как же мы могли одевать перчатки, мы специально снимали, чтобы пережить то же самое, что пережил мой папа во время войны”. Это не просто говорит о какой-то самоотверженности. Люди, это же не актеры, а простые люди из города, которые пришли почти бесплатно сниматься в фильме, они отнеслись к этой идее не как к работе, не как к способу заработать какие-то рубли, это был их святой долг. Они относились к этому как к гражданскому поступку. И только атмосфера общего нравственного долга, который мы должны выполнить, помогла людям, практически, совершить невозможное, потому что в тех условиях так, как мы снимали, я не знаю, как бы мы выбрались. А мы успели снять на месяц раньше срока. Люди отдавали сердце, и если оно отдавалось, то оно не могло бы не найти своего отражения в картине».
По материалам документальных фильмов:
«Зачем пережила тебя любовь моя…» (реж. Л. Вьюгина, 2007), «Лариса Шепитько» из телевизионного цикла «Острова» (реж. Т. Скабард, 2012), телепередачи «Разговор с Ларисой» (1999 год), «Голгофа Ларисы Шепитько» (автор А. Казакевич, реж. К. Голенчик, 2017), «Восхождение Ларисы Шепитько» (автор Е. Безбородов, реж. Н. Бокарева, 2008), «Я завещаю тебе…Юрий Ракша» (автор И. Ракша, реж. Б. Шейнин, 2008) и Встречи с Владимиром Гостюхиным в Президентском Центре Б. Ельцина.
Использованы источники:
В муромских лесах // Комсомольская искра. – 1976. – 25 января. – С. 3.
Съемочная группа приглашает… // Муромский рабочий. – 1976. – 9 января. – С. 4.
Подробнее о фильме «Восхождение» (1976)
читайте в проекте «Край Владимирский снимается в кино»
Продолжение следует…
Этот сайт использует файлы cookies и другие технологии для улучшения качества предоставляемых услуг ПодробнееПонятно
История создания фильма
«Восхождение» — первый советский фильм, получивший премию «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале.
Лариса Шепитько очень мало прожила, очень рано погибла, но то, что она успела снять сама или в соавторстве со своим мужем Элемом Климовым — настоящие киношедевры.
«Восхождение» стало ее последним фильмом. Последним же он стал и для оператора группы Владимира Чухнова, который погиб в той же автокатастрофе вместе с режиссером через три года после выхода картины на экраны.
Сценарий фильма был написан по мотивам повести Василя Быкова «Сотников». Сценарист Юрий Клепиков не сразу согласился на работу. ТИз-за занятости на на съемках другой картины, он просил отложить начало работы над фильмом «Восхождение» на неделю. Шепитько была неумолима, нельзя было терять ни недели. И ей понадобилось всего два часа, чтобы переубедить Клепикова. Так начались съемки.
Да и утверждение сценария проходило не очень гладко. На тот момент за Ларисой Шепитько уже утвердилась слава «неудобного» режиссера. она постоянно билась за каждый эпизод своих картин с Госкино, по любому вопросу у нее было собственное мнение. И в этот раз сценарий заворачивали несколько раз на доработку. Таким образом, с момента написания сценария до момента его утверждения прошло почти четыре года.
Актерский состав
При подборе актеров Шепитько руководствовалась их молодостью, неизвестностью, ей не были нужны звезды отечественного кино. Поэтому пришлось отказать Андрею Мягкову, который очень хотел сниматься в фильме. Но режиссеру очень было нужно, чтобы те, кому только предстоит сыграть святых XX века, не были привычными для зрителя, любимыми артистами с устоявшимися амплуа и ожидаемыми репризами. Чтобы никакие привычные образы не мешали зрителю понять и прочувствовать то, что будет происходить на экране.
При подборе актера на роль Сотникова Лариса Шепитько предлагала держать все время в голове образ Иисуса Христа. В конце концов не без труда на эту роль был утвержден Борис Плотников, и хотя ему пришлось проходить пробы семь раз, тем не менее он подошел идеально.
На роль Рыбака было просмотрено 20 актеров, и только 21-м стал Владимир Гостюхин — яркий, харизматичный и темпераментный.
Съемочный процесс
Съемки начались в январе 1974 года и проходили под Муромом. Съемочная группа специально выбирала самые морозные дни, чтобы актеры, по выражению Шепитько, «почувствовали зиму на клеточном уровне». Впоследствии Владимир Гостюхин, вспоминая съемки, говорил, что это была не игра, а «смерть в каждом кадре».
Фильм все время находился на грани запрета. Основным обвинением было то, что вместо саги о партизанах Шепитько снимает религиозную философскую притчу. Вмешался муж Шепитько, режиссер Элем Климов. Он в обход всех прочих инстанций обратился к первому секретарю ЦК компартии Белоруссии Петру Машерову и устроил индивидуальный личный просмотр для него. Изначально настроенный скептически, Машеров уже через 20 минут плакал. В результате фильм был принят без единой поправки.
А дальше были признание и награды: «Золотой медведь» в Берлине, главный приз в Риге, государственная премия СССР — вот только часть большого списка всевозможных премий и наград.
Информация для учителя.
Лекция о фильме «Восхождение»
Лекторы: кинокритик Антон Долин, журналист Антон Климов, актриса Елена Драпеко, киновед Андрей Шемякин.
Фильм Ларисы Шепитько 1977 года
| Восхождение | |
|---|---|
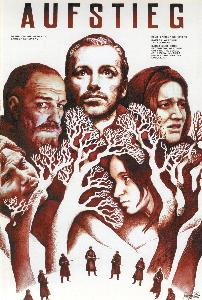 Немецкий плакат — (слева направо) Рыбак, староста, Сотников, Бася, Демчиха Немецкий плакат — (слева направо) Рыбак, староста, Сотников, Бася, Демчиха |
|
| Режиссер | Лариса Шепитько |
| Автор | Василь Быков (роман). Юрий Клепиков. Лариса Шепитько |
| По материалам | Сотников. по Василь Быка |
| В главной роли | Борис Плотников. Владимир Гостюхин. Сергей Яковлев. Людмила Полякова. Анатолий Солоницын |
| Музыка | Альфреда Шнитке |
| Кинематография | . Павел Лебешев |
| Продакшн. Компания | Мосфильм |
| Дата выхода |
|
| Запуск время | 111 минут |
| Страна | Советский Союз |
| Язык | Русский. Немецкий |
The Ascent (Русский : Восхождение, тр. «Восхождение», дословно — Вознесение) — это черно-белый черно-белый советский драматический фильм 1977 года режиссера Ларисы Шепитько и произведено на Мосфильме. Фильм снят в январе 1974 года недалеко от Мурома, Владимирская область, Россия, в ужасающих зимних условиях, как того требует сценарий, по роману Сотникова. Василь Быков. Это был последний фильм Шепитько перед ее гибелью в автокатастрофе в 1979 году. Фильм получил награду «Золотой медведь» на 27-м Берлинском международном кинофестивале в 1977 году. Советский конкурс на Лучший фильм на иностранном языке на 50-й церемонии вручения премии Оскар, но не был принят в качестве номинанта.
Содержание
- 1 Сюжет
- 2 Актерский состав
- 3 Производство
- 3.1 Подготовка к производству
- 3.2 Сценарий
- 3.3 Начало производства
- 3.4 Кастинг
- 3.5 Съемки
- 3.6 Версия
- 4 См. Также
- 5 Ссылки
- 6 Литература
- 7 Внешние ссылки
Сюжет
В годы Великой Отечественной войны (Второй мировой войны ) два советских партизана поехать в белорусскую деревню в поисках еды. Забрав животное у старосты-коллаборациониста (Сергея Яковлева), они возвращаются в свою часть, но их замечает немецкий патруль. После затяжной перестрелки в снегу, в которой один из немцев был убит, двое мужчин уходят, но Сотников (Борис Плотников ) получает ранение в ногу. Рыбак (Владимир Гостюхин ) должен отвезти его в ближайший приют, в дом Демчихи (Людмила Полякова ), матери троих малолетних детей. Однако их обнаруживают и захватывают.
Двое мужчин и рыдающий Демчиха везут в немецкий штаб. Сотникова сначала допрашивает местный коллаборационист Портнов (Анатолий Солоницын ), бывший советский директор клуба и детский хормейстер, который стал местным начальником Белорусской вспомогательной полиции Верный немцам. Когда Сотников отказывается отвечать на вопросы Портнова, его жестоко пытают сотрудники коллаборационистской милиции, но не сообщает никакой информации. Однако Рыбак рассказывает столько, сколько, по его мнению, полиция уже знает, надеясь выжить, чтобы он мог сбежать позже. Портнов предлагает ему работу милиционера. Староста, которого теперь подозревают в поддержке партизан, и Бася Мейер, дочь-подросток еврейского сапожника, содержатся на ночь в одном подвале.
На следующее утро всех выводят на повешение. Рыбак принимает предложение Портнова, и немцы разрешают ему присоединиться к полиции. Сотников и другие расстреляны.
Когда он направляется обратно в лагерь со своими новыми товарищами, жители деревни поносят Рыбака. Осознав, что натворил, он пытается повеситься в сортире на поясе, но ему это не удается. Другой полицейский зовет Рыбака, пока Рыбак не открывает дверь. Полицейский говорит ему, что его хочет их командир, и оставляет его одного во дворе. Рыбак смотрит в открытую дверь и начинает смеяться и плакать.
В ролях
- Борис Плотников в роли Сотникова
- Владимир Гостюхин в роли Рыбака
- Сергей Яковлев в роли деревенского старосты
- Людмила Полякова в роли Демчихи
- как Бася Мейер
- Анатолий Солоницын как Портнов, следователь-коллаборационист
- Мария Виноградова как жена деревенского старосты
- как Стас
Производство
Подготовка к съемкам
Все фильмы личные, но желание снимать «Восхождение» было почти физической потребностью. Если бы я не снял эту картину, это было бы для меня катастрофой. Не нашла другого материала, с помощью которого я могла бы передать свои взгляды на жизнь, на смысл жизни.
— Лариса Шепитько
До Восхождения режиссер Лариса Шепитько снимала фильм «Ты и я». Производство проходило под атмосфера сильного стресса. Технические и организационные трудности привели к необходимости вызвать скорую помощь по поводу здоровья директора. Выпуск фильма был ничуть не легче; цензоры удаляли критические сцены, и Шепитько приходилось бороться за каждую из них. Эта борьба не всегда была успешной. Несмотря на то, что фильм стал одним из призеров Венецианского кинофестиваля, снятые сцены стали страшным ударом для Шепитько, который считал, что изменение важного момента ведет к потере главных идей.
Для Шепитько после выхода фильма на экраны были тяжелые времена. По ее собственному признанию, в течение четырех месяцев режиссер находился в «чудовищном умственном и физическом истощении». Осознание того, что впоследствии было необходимо, пришло к ней внезапно, когда она лечилась в Сочи санатории, но ее творческие планы были подорваны катастрофическим падением, которое привело к серьезному сотрясению мозга и травма позвоночника. Несколько недель Шепитько был прикован к постели. Ситуация усугублялась еще и тем, что она была беременна, но она чувствовала, что во время беременности она более полно осознала сложности жизни. Каждый день ее преследовала возможность смерти; чтение романа Сотникова в этот период помогло Шепитько выразить это состояние на киноэкране.
Сценарий
По большей части сценарий, написанный Юрием Клепиковым, следует за романом.. Шепитько обратилась к Клепикову по рекомендации одноклассницы Натальи Рязанцевой, но тот уже был занят работой над другим сценарием. Клепиков не отказался от комиссии, но попросил отложить работу над The Ascent на неделю. Шепитько призвала его немедленно приступить к работе, и единственный телефонный разговор с ней убедил его бросить все, что он делал. Клепиков, по его собственному признанию, «не выдержал энергии тайфуна по имени Лариса» и приступил к пересмотру литературного фундамента, который позже описал как «тонкую философскую притчу, сочетающую в себе высокий дух человека и его очевидное желание сохранить тело как вместилище духа ». Результатом работы стал 70-страничный сценарий, который Шепитько затем скрупулезно отредактировал. Шепитько практиковала «инженерный» подход: она не терпела неопределенности и нечеткости в работе, не полагалась на режиссерскую импровизацию или творческое вдохновение. Каждый кадр, каждое замечание, каждая сцена тщательно проверялись и заранее планировались. По словам Юрия Клепикова, даже «плодотворная непосредственность была обусловлена самой обстановкой съемок», что обеспечивалось тщательно продуманным сценарием.
При адаптации сценария Сотникова главной заботой режиссера было не теряют более глубокое философское содержание рассказа. В то время как литературное произведение Бикава было полно чувственных деталей, таких как «ледяной холод», «голод», «опасность», Шепитько категорически противодействовал попыткам довольствоваться внешним действием и требовал «внутреннего оправдания» каждого движения, жеста и взгляда. герои. Чтобы выразить духовные состояния, ей часто приходилось отклоняться от литературной основы. Например, в финале оригинальной истории Рыбак решает повеситься в уборной, но обнаруживает, что забыл попросить обратно ремень, который милиционеры забрали накануне вечером. Теоретически в фильме можно было бы изобразить отсутствие пояса, но тогда, по мнению сценаристов, сцена ограничилась бы обозначением обстоятельств: информативным, но не впечатляющим с художественной точки зрения отрицанием. Авторы «вернули» ремень Рыбаку, но он был лишен возможности повеситься; подразумевая, что даже смерть отвергает предателя. Их идея заключалась в том, чтобы оставить Рыбака наедине со знанием его падения. Следующий длинный крупный план величественной природы означал свободу, которой отчаянно желает Рыбак, и должен был подчеркнуть крайнее отчаяние «человека, который потерял себя».
Муж Шепитько предположил Элем Климов название фильма. Задолго до этого, в 1963 году, между будущими супругами установилась традиция, что за хорошую идею они получали десять рублей. Когда они только начали встречаться, Климов придумал для дипломного фильма Шепитько название — Жара. Шепитько и Климов решили продолжить этот игривый подход вознаграждения друг друга, но после всех лет их союза Климов один получил десять рублей награды и только дважды: за Жару и за Восхождение.
Начало производства
Следующим шагом было согласование сценария в Государственном комитете по кинематографии. К тому времени Шепитько уже заработал репутацию неудобного режиссера. В 1973 году, когда она подняла тему создания фильма, ответ от чиновника Государственного комитета по кинематографии был категоричным отрицательным. У режиссера не было конфронтации, но и других проектов она не предлагала. На протяжении всей своей режиссерской карьеры Шепитько начинала работать над фильмом только в том случае, если чувствовала, что «если она этого не сделает, то умрет».
За помощь в преодолении сопротивления властей и государства. Политуправление, Шепитько обратилась к Джемме Фирсовой, у которой она училась во ВГИК. Фирсова была администратором ассоциации военно-патриотических фильмов. На нее больше повлиял сценарий, чем роман, и в день знакомства с Шепитько она пошла на встречу с министром кинематографии Филиппом Ермашем. В разговоре с заменой Ермаша (в своих воспоминаниях Фирсова не называла Бориса Павленка по имени) Фирсова сказала, что взяла сценарий под свою ответственность, солгав, что «с ГПУ все будет хорошо». Замена Ермаша скептически отнеслась к мольбам, и последующий процесс от утверждения сценария до принятия актеров фильма сопровождался значительными трудностями. Основное обвинение заключалось в том, что Шепитько якобы составил религиозную притчу с мистическим оттенком из партизанского рассказа; в атеистическом советском кино это считалось восстанием. Шепитько возразила, что она не религиозна и что рассказ о предательстве допотопен. По ее словам, Иуда и Иисус существовали всегда, и если легенда связана с людьми, значит, она была жива в каждом человеке. Чиновники встретили оценку Шнитке сопротивлением и приказали удалить намеки на библейские тексты.
С того момента, как она прочитала рассказ Сотникова, Ларисе Шепитько потребовалось четыре года, чтобы подготовить и получить разрешение от властей, чтобы начать съемка картины.
Кастинг
Шепитько решил использовать неизвестных или малоизвестных актеров, чьи прошлые роли не бросили бы тень на их персонажей в «Восхождении». Из-за этого она отвергла Андрея Мягкова, который хотел сыграть в картине. Такая же участь постигла Николая Губенко. Владимир Высоцкий, жаждущий сыграть Рыбакова, также не прошел отбор. В то время, когда проходили кастинги на «Восхождение», Высоцкий снимался в фильме Негр Петра Великого. Производство этого фильма происходило на киностудии «Мосфильм», рядом с местом проведения прослушиваний, и в перерывах между прослушиваниями Высоцкий часто бывал посмотреть, что происходит на звуковой сцене Шепитько.
С самого начала поиска. Для актера, который будет играть Сотникова, Лариса Шепитько поручила своему ассистенту по кастингу Эмме Баскаковой помнить об образе Христа, хотя вслух об этом нельзя было упомянуть. Лучшим кандидатом на роль по мнению режиссера оказался 25-летний актер Свердловского театра Борис Плотников, но в замысле Шепитько руководство Госкино усмотрело намерение поставить Иисуса на советский экран. Плотникова, репертуар которого до того времени в основном включал роли волшебных животных, пришлось даже придумывать с целью еще большего прославления персонажа, чтобы художественный совет утвердил его на роль. Всего актер прошел семь пробных съемок, на которые ему всегда приходилось лететь в Москву из Свердловска.
На роль Рыбака режиссер отобрал 20 кандидатов. На роль выбран неизвестный актер Владимир Гостюхин. Гостюхин, проработавший шесть лет в Театре Советской Армии мастером мебели и реквизита, однажды заменил больного актера в спектакле «Неизвестный солдат». Его выступление заметила Светлана Климова, которая была директором второго блока у Василия Ордынского. Гостюхин получил приглашение сняться в сериале «Дорога на Голгофу», где исполнил роль анархиста и бандита Красильникова, от которого требовались харизма и сильный темперамент. Именно во время работы на съемочной площадке его заметили помощники Ларисы Шепитько. Гостюхин был приглашен на прослушивание на роль Рыбака, но изначально не мог приравнять «женщину необычайной красоты [Шептико] к супер-мужественной, жесткой и трагической истории Васила Быкова». Но после 20-минутного разговора с режиссером он убедился, что только она сможет снять экранизацию этой увесистой книги. Несмотря на это, Шепитько изначально сомневался в кандидате, который даже с актерской подготовкой оставался лишь разнорабочим. Плотников сразу привлек режиссера своим телосложением, улыбкой, взглядом и пластикой, а внешность Гостюхина не совпадала с тем, каким Шепитько видел Рыбака: молодой актер пришел на пробы с несвойственной партизанке «легкомысленной» челкой. Грубые манеры Гостюхина поначалу оттолкнули других членов приемной комиссии, но Шепитько объяснил свое поведение застенчивостью и решил прослушать кандидата, который уже на первой репетиции произвел на всех сильное впечатление своей самоотверженностью в реализации персонажа.
Актер на роль Портнова был выбран по образу Сотникова. Лариса Шепитько хотела найти кого-то похожего по внешним характеристикам на Плотникова, говоря: «Они похожи, но Портнов — антипод Сотникову по внутренним убеждениям. Это должен быть очень хороший актер. Их дуэль, да, да, борьба с Сотников — вечный конфликт, вечная битва между духом и бездуховностью… Умирая, страдая, Сотников побеждает, потому что он силен духом. Он умирает и возносится над своим мучителем ».
Анатолий Солоницын сначала не увидел ничего интересного в том, что он считал «ролью второго плана» и которую считал «перефразированием» снятого ранее. Поначалу актер даже не понимал, чего от него хотят, несмотря на то, что он старательно играл «врага», «человека с разбитым сердцем» или «человека без будущего», как и требовалось. Но он чувствовал, что персонаж окажется всего лишь карикатурой, как в дешевой популярной литературе. Только долгая беседа с режиссером позволила ему понять ее видение Портнова: олицетворение отрицательной стороны в извечной истории борьбы человека с животным внутри себя во имя высшей ценности — ценности духа. Режиссер настаивал на том, что Великая Отечественная война была выиграна советскими людьми благодаря их высокому уровню осведомленности, поэтому роль Портнова «антигерой» была особенно важна, потому что персонаж должен был подчеркивать превосходство власть человеческого духа над материей.
Съемки
Съемки начались 6 января 1974 года — в день рождения режиссера Шепитько (по другим данным, съемки начались 5 января) — в окрестностях г. город Муром. Первые сцены снимались на натуре посреди полей, леса и оврагов, несмотря на то, что погода была сорок градусов ниже нуля. По словам Бориса Плотникова, мороз и целинный снег были обязательными условиями, которые Васил Быков изложил в своем рассказе. Такой подход поддержала Лариса Шепитько, по словам которой актеры должны были «прочувствовать зиму до самых камер», чтобы более надежно войти в образ. Вместе с тем, съемочный процесс был спланирован таким образом, чтобы актеры начинали с максимально легкой в психологическом плане игры и сцен, которые позволяли им постепенно погружаться в своих персонажей.
С самого начала Шепитько удалось вдохновлять своей идеей каждого сотрудника; они понимали, что фильм о святом: Родине, высших ценностях, совести, долге и духовном героизме. Ее умение увлекать коллег проявлялось и раньше: Юрий Визбор (главный актер в фильме «Ты и я») сказал: «Мы работали на Ларису, в частности, лично для нее. У нее была вера, и это было причиной. Вера в добро и необходимость в нашей работе, и именно эта вера была абсолютно материальной субстанцией, на которую можно очень реально положиться ».
В суровых условиях, в которых проходили съемки, этот фактор был очень важен: массовки и члены съемочной группы были обморожены, но никто не пожаловался. Сама Шепитько не просила и не требовала особого отношения, и ее коллеги помнили ее как пример мужества, веры, терпения и необычайной заботы. Например, Борис Плотников был одет очень легко и быстро онемел от холода и пронизывающего ветра в чистом поле; но после команды «Стоп! Срезать!» директор подошел к нему, чтобы согреть его и поблагодарить. Ей также пришлось разогреть Владимира Гостюхина, который позже написал: «Стоило« умереть »на сцене, чтобы почувствовать ее благодарность». Он сказал, что практически никто не знал, какое усилие Шепитько прикладывал при съемке каждого кадра. Иногда Гостюхину приходилось самому нести директора из машины в номер гостиницы: Шепитько иногда было неважно, а иногда ее силы ослабляли. Задолго до восхождения Шепитько на съемках фильма «Жара» заболела гепатитом. Не обращая внимания на совет поехать в Москву, она продолжила снимать картину с носилок, на которых ее привезли из заразной казармы. Более того, Шепитько недостаточно выздоравливала, а последствия болезни негативно сказались на ее самочувствии в будущем, в частности на съемках «Восхождения». Кроме того, она испытала сильную боль из-за недавней травмы позвоночника. Но Шепитько все же встала за два-три часа до того, как экипаж успел подготовиться, после чего в течение дня работала на пределе своих сил. Например, в одной длинной сцене партизаны с трудом убегают по густому снегу от преследователей. На экране нужно было показать смертельную усталость покрасневших, задыхающихся людей. Чтобы избежать лицемерия в сценах, режиссер во время съемок бегал рядом с актерами, переживая вместе с ними их истощенное состояние. С такой самоотдачей съемки проходили без перерыва и заканчивались на месяц раньше срока.
Чтобы добиться от актеров желаемой игры, Шепитько иногда подолгу разговаривал с ними на морозе. Например, несмотря на полную готовность съемочной группы, режиссер подолгу разговаривал с Борисом Плотниковым, персонажем которого она тщательно руководила во время съемок. Привычка Шепитько четко излагать свои мысли способствовала успешной передаче информации; она всегда избегала заумных терминов, которые могли бы скрыть отсутствие ясности. Она ждала необходимого выражения эмоций, правильного выражения лица и жестов, а потом вдруг отдавала приказ начать съемку. Борис Плотников позже сказал, что хотел бы повторить этот опыт в других фильмах, но так и не сделал. О работе с Шепитько Плотников говорил о «встрече с живым гением». Аналогичного мнения о режиссере фильма высказал и Васил Быков, назвав ее «Достоевский в юбке». Быков очень ценил Ларису Шепитько и однажды признался, что если бы он встречался с ней раньше, то написал бы Сотникова иначе.
Владимир Гостюхин охарактеризовал съемочный процесс не как актерскую игру, а как «смерть в каждом кадре». Для него и Плотниковой это было крайне важно, чтобы подтвердить доверие режиссера, так как она необходима, чтобы защитить свой выбор литья долго и упорно перед советской властью фильма. Гостюхин говорил о способности Шепитько донести до актеров идею, сродни гипнозу, при котором он с Плотниковым — новичками на киностудии — могли творить «чудо перевоплощения». На первой репетиции Шепитько даже обрызгал им лица снегом. По предложению последних это было сделано для того, чтобы привлечь их внимание и волю, а также придать текстуре и убедительности их персонажам. Позже это стало своеобразным ритуалом, часто предшествующим очередной съемке на съемочной площадке. Гостюхин напомнил, что он превратился в Рыбака до такой степени, что даже искусственный синяк спал с его лица только через три недели. После съемок фильма актер так долго пытался уйти от роли и снова стать самим собой, что, несмотря на ее настойчивые просьбы, отказался сниматься в следующем запланированном фильме Шепитько «Прощание».
Дизайнер Юрий Ракша позже так рассказывал о ситуации:
Мы начали работать и начали свое уникальное существование вместе с персонажами. Могу сказать, что фильм повзрослел и нас. Говоря о святынях, о категориях высокой духовности, мы были обязаны применять высокие стандарты и к себе. Было невозможно быть одним человеком на съемочной площадке и быть другим в реальной жизни.
Релиз
Фильм был практически запрещен: контролирующие органы посчитали, что снята «религиозная притча с мистическим оттенком» вместо партизанского рассказа. Шансы на то, что фильм отложат, были очень высоки, пока Элем Климов (муж Ларисы Шепитько, а также кинорежиссер по профессии) не решился на отчаянный шаг. Пока Климов готовился к съемкам фильма «Убить Гитлера» (вышедшего на экраны под названием Come and See в 1985 году), он встретился с Петром Машеровым, первым секретарем Минфина. Коммунистическая партия Беларуси, которая всячески поддерживала режиссера и даже выступала в роли исторического консультанта. Во время войны этот высокопоставленный чиновник сам был партизаном, более того, в 1942 году немецкие оккупанты повесили его мать за сотрудничество с партизанами.
Когда Климов, минуя Мосфильм, пригласил Машерова на спец. В превью «Восхождения» он поначалу был настроен скептически и ожидал увидеть «женоподобную режиссерскую работу». Еще немного влажную пленку привезли в Минск прямо из лаборатории, а сама Лариса Шепитько села за микшерный пульт. Через двадцать-тридцать минут после того, как Машеров начал просмотр, он обнаружил, что не может оторваться от экрана, а к середине фильма он плакал, не скрывшись от присутствовавших в зале руководителей республики. В конце фильма Машеров — вопреки традиции (обычно на таких премьерах мнения слышались сначала с низов, потом с высших) — вышел на сцену и выступил минут сорок. Его слова не были записаны никем, но Элем Климов показал, что его возбужденная речь была одной из лучших, которые он когда-либо слышал в адрес своей жены. Белорусский писатель, ветеран Великой Отечественной войны Алесь Адамович, присутствовавший на показе, охарактеризовал Машерова как человека, который задавался вопросом: «Откуда взялась эта девушка, которая, конечно, ничего подобного не испытывала, но знает о ней все., как она могла выразить это так? » Через несколько дней фильм «Восхождение» был официально принят без каких-либо поправок.
В июле 2018 года он был выбран для показа в разделе «Венецианская классика» на 75-м Венецианском международном кинофестивале.
См. Также
- Список заявок на 50-ю церемонию вручения премии Оскар за лучший фильм на иностранном языке
- Список заявок на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке
Список литературы
Литература
- Климов, Элем (1987). Лариса: книга о Ларисе Шепитько [Лариса: книга о Ларисе Шепитько]. Москва: Искусство. п. 290. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
- Климов, Герман; Мурзина, Марина; Плахов, Андрей; Фомина, Раиса (2008). Элем Климов. Неснятое кино [Элем Климов. Unshot cinema] Москва: Хроникер. С. 384. ISBN 978-5-901238-52-3.
Внешние ссылки
- The Ascent на IMDb
- The Ascent at AllMovie
- The Ascent at Turner Classic Movies
- The Ascent на официальном сайте Мосфильм с английскими субтитрами
- Очерк Criterion Collection Майкла Корески
«Смертью смерть поправ». Зачем смотреть фильм Ларисы Шепитько «Восхождение»
Один из лучших фильмов о войне, к сожалению, до сих пор очень редкий гость на наших телеэкранах.
Кадр из фильма «Восхождение»
За право снять фильм «Восхождение» (1976) Лариса Шепитько билась не один год. Чиновники из Госкино сценарий отвергали, обвиняя режиссера в том, что историю о двух партизанах она пытается превратить в религиозную притчу. Помогла Джемма Фирсова, в тот период главный редактор группы военно-патриотических фильмов, и первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров, в годы войны – командир партизанского отряда.
Но и сама Лариса Ефимовна со своей удивительной энергетикой умела убеждать. Так, за один телефонный звонок она уговорила Юрия Клепикова бросить все дела и срочно заняться написанием сценария по повести Василя Быкова «Сотников» («Ликвидация»). Убедила актера Анатолия Солоницына сыграть предателя, следователя немецкой полиции Портнова, и эта роль «второго плана» стала одной из важнейших в фильме. Кажется, что каждый актер «Восхождения» играет на пределе человеческих возможностей.

Кадр из фильма «Восхождение»
Зима 1942 года, партизанский отряд в заснеженных лесах Белоруссии чудом уходит от немцев. Это отставшие при отступлении бойцы Красной Армии, женщины и дети. Раненые, замерзающие в снегу, смертельно уставшие и голодные. Командир отправляет двух бойцов в соседний хутор за провизией. Один – Коля Рыбак – сильный, живой, крепкий. Он уходит на задание не оглядываясь, и снег с берез вдруг накрывает его белой пеленой. Второй – Борис Андреевич Сотников – учитель математики, худой и сутулый. Он сильно простужен, бесконечно кашляет, но от задания командира не отказывается. Каратели схватят их обоих в доме местной жительницы.
Удивительная игра Владимира Гостюхина делает историю о том, как война ломает человека, острее, глубже, больнее. Его героя Колю Рыбака, внешне такого сильного и опытного бойца, плен сломает. Но сломает исподтишка. И по сути своей он не предатель. Честно воюет, не бросает раненого Сотникова, из последних сил тащит его на себе по снегу. Но, оказавшись один на один со смертью, он не может перебороть в себе животный страх. Он хочет жить. Он себя обманывает, убеждает, успокаивает. Ему кажется, что можно «выкрутиться», сейчас спастись, а потом все исправить.

Кадр из фильма «Восхождение»
Фильм, полный библейского символизма, построен на противопоставлении земного Рыбака и прозрачного (кажется, ветер подует, и его не станет) Сотникова. Для 25-летнего актера Свердловского ТЮЗа Бориса Плотникова эта роль стала дебютом в кино, и за него Лариса Шепитько тоже билась – перед худсоветом. По ее задумке главный герой «Восхождения» должен внешне быть похожим на Христа, а эта идея чиновникам от кино понравиться никак не могла. Но и здесь режиссер оказалась права.
Молодой актер удивительно просто и достоверно показал, как физически слабый человек вдруг может преобразиться и стать необъяснимо сильным. Дух сильнее плоти. Сотникова не сломят пытки. Если он и будет о чем-то просить своих мучителей, то только оставить в живых женщину, мать троих детей, что дала им приют (роль Людмилы Поляковой). Говорит его герой голосом Александра Демьяненко – теплым, умным, спокойным. Его диалог со следователем полиции Портновым (бывшим руководителем местного детского хора) становится настоящим поединком – вневременной, вечной битвой животного и небесного в каждом человеке.
Портнов уверен, что человек – ничтожество. Стоит ему испытать боль, почувствовать страх смерти, и он быстро станет «самим собой». Он уверяет, что сейчас у Сотникова никаких принципов и высоких слов не останется. А Сотников просто знает, что есть вещи важнее его собственной жизни. Он сразу принимает для себя решение – умереть, он просто не видит для себя возможности пойти на сделку с совестью. Во время пытки, когда на его груди раскаленным железом выжигают звезду, самодовольную ухмылку на лице следователя вдруг сменит удивление, даже разочарование. Нет, оказывается, человек не ничтожество. Есть такие, которые в самых экстремальных, самых страшных условиях словно вырастают над собой. Как писал Антоний Сурожский, вырастают «в полную меру своего человечества».

Кадр из фильма «Восхождение»
В подвале перед казнью староста хутора Петр Сыч (роль Сергея Яковлева), сотрудничавший с немцами, будет стоять на коленях и плакать перед измученным бойцом, как плакал апостол Петр накануне крестной смерти Христа. Маленькая еврейская девочка Бася (Виктория Гольдентул) окажется такой же сильной, как Сотников, и не назовет имя женщины, которая прятала ее от немцев. Героиня Людмилы Поляковой на миг оступится и чуть не предаст невинного человека на смерть. Но вовремя опомнится. Ее роль потрясает от первого до последнего кадра, в которых она переживет ненависть, ужас, отчаяние, прощение, смирение.
Путь этих четверых героев по ледяной горе в молчаливом сопровождении жителей неизвестного белорусского хутора – это их восхождение на Голгофу. Значит, будет и победа над мучителями. Поединок следователя Портнова и артиллериста Сотникова закончится на виселице. Перед самой своей казнью, увидев в толпе плачущего мальчика, Сотников вдруг светло улыбнется ему и словно взлетит на небо.

Кадр из фильма «Восхождение»
Предавший останется в аду. В повести Быкова согласившийся стать полицаем Рыбак хочет повеситься, но не может – немцы отобрали у него солдатский ремень перед допросом и не успели вернуть. Режиссер оставила ему ремень, но герою он все равно не поможет. Два раза Рыбак тщетно вяжет его на березовой балке. Порой сделка с совестью обратной силы не имеет. Фильм Ларисы Шепитько удивителен и тем, что в нем впервые в нашем кинематографе так открыто, даже буднично раскрывается тема сотрудничества местного населения с немцами. События происходят в небольшом хуторе, где все друг друга знают. Война поделила этих людей на два лагеря. Как немало тех, кто решает спасти свою жизнь любым способом. И даже тех, кто рад прислуживать и очень хочет стать своим для «цивилизованных» немцев.
Потрясающая работа звукорежиссера Яна Потоцкого. С первых кадров этот фильм буквально оглушает зрителя – своей тишиной и естественностью. Он, действительно, очень тихий: метель, скрип снега, лай собак вдалеке, хруст промерзших березовых веток, редкие выстрелы. В кульминационных моментах звук выключен: беззвучный стон Сотникова во время пыток и такой же беззвучный вой отчаяния того, кого даже смерть не приняла, сильнее любого крика. Музыка Альфреда Шнитке тоже тихая, тонкая, воздушная, плавно преходящая в колокольный звон по душам умерших.
Снимали «Восхождение» в муромских лесах, зимой, при сорокаградусном морозе. Члены съемочной группы не раз получали обморожения. Как в таких условиях играли (вернее, жили перед камерой) актеры, объяснить невозможно. Но режиссер не давала поблажек ни другим, ни себе, требуя предельной честности, требуя актерского, а, порой, и духовного подвига. Такого, что артисты позже вспоминали: после съемок в этом фильме они долго не могли «вернуться в себя». А Лариса Шепитько признавалась, что не могла не снять этот фильм. Иначе это было бы для нее «крахом» – творческим, личным. В тот момент история, написанная фронтовиком Быковым, олицетворяла все, что она сама думала о жизни, смерти и войне. Эта история предельно ясно объясняла, почему мы победили.
«Восхождение» станет первым советским фильмом, получившим «Золотого медведя» – высшую награду Международного кинофестиваля в Западном Берлине. И последней законченной работой режиссера – фильм «Прощание» по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» завершил уже ее муж Элем Климов. Через три года после премьеры «Восхождения» Лариса Шепитько погибла в автокатастрофе вместе с оператором Владимиром Чухновым, который создавал с ней этот киношедевр. Отмеченная критиками, коллегами-режиссерами и артистами, их лента не вошла в ряд военных фильмов, которые каждый год обязательно показывают на телеэкранах.

Кадр из фильма «Восхождение»
Безусловно, психологически фильм очень тяжелый. Хотя даже самые страшные сцены представлены деликатно и бережно к зрителю. В фильме намного больше света, чем отчаяния. Потому каждый его просмотр – это «восхождение» и для зрителя. Как библейская притча, фильм открывается настолько, насколько человек в определенный момент своей жизни может увидеть, принять, вместить в себя. Пласт за пластом, он говорит о малодушии и трусости, о легкости предательства и ужасе его последствий, о совести и долге перед Родиной, о страхе и подвиге, о непобедимости духа и бессмертии, о вере. Порой кажется, что действие переносится на две тысячи лет назад, что снег – это песок, а жители белорусского села – первые христианские мученицы и мученики, которые уходят в вечную жизнь.